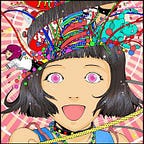Благотворительность — это эгоизм
Когда я слышу о благотворительности, в памяти неизменно всплывает эпизод из книги Гиляровского “Москва и москвичи” (описание Москвы конца 19-го века). О том, как в “России которую мы потеряли” закованные в кандалы заключенные ходили пешком из Бутырского тюремного замка прямиком в Сибирь. Это зрелище неизменно пробуждало милосердие в православном народе. И при отбытии колонны было принято подкармливать заключенных булками. Особенно усердствовали старообрядцы, убежденные, что именно эти булки они будут предъявлять апостолу Петру на входе в Царствие Небесное.
Пикантность ситуации заключалась в том, что “несчастненькие” с радостью принимали хлеб, чтобы, пройдя чуть дальше, обменять его на водку у поджидающих спекулянтов. Так булки возвращались на московский рынок, а пьяные каторжане с песнями и плясками продолжали ползти в Сибирь.
Довольны оставались все: благотворители — купленным билетом в рай, каторжане — вкусной водкой, спекулянты — полученной прибылью. И горе тому, кто хоть пальцем попробует тронуть такую систему — палец примутся ломать все участники процесса, под громкие крики о черствости и бессердечии. Этот эпизод красноречиво говорит о том, что не нужно спешить и присуждать статус святого всякому благотворителю. Ведь даже в Ватикане святым могут признать лишь посмертно и после расследования специальной комиссии. А уж там у людей тысячелетний опыт борьбы с проходимцами в своих рядах.
Сейчас в отечественном медийном поле активизировались извечные споры вокруг благотворительности. Может ли филантроп ходить на поклон к диктаторам, оправдывая это спасением детей? Может ли он носить брендовые одежки или обязан ходить в обносках? И можно ли вообще критиковать филантропов или “святых людей немытыми руками не трогать”? Но за всеми подобными вопросами стоит одно единственное убеждение. Многие почему-то считают, будто филантропия — это только альтруизм. И потому испытывают шок, когда вознесенные в ангельских ранг благотворители оказываются простыми смертными, которые радостно жмут руки диктаторам и щеголяют статусными шмотками.
Но все можно объяснить без противоречий, стоит лишь признать очевидное: благотворительность — это эгоизм. И в пользу такой позиции есть множество аргументов.
Чем ограничен альтруизм
Как мог появится альтруизм в нашем жестоком мире? Ричард Докинз в книге “Эгоистичный ген” объясняет альтруистическое поведение особей через эгоистические интересы генов. Со своими родителями, детьми и братьями мы имеем 50% родства, с внуками — 25%, с кузенами — 12.5%. Так может существовать условный “ген альтруизма”, которому выгодно пожертвовать особью ради такого количества родни, которое окупит жертву. Один из отцов теории родственного отбора биолог Джон Холдейн сказал по этому поводу: “я готов отдать свою жизнь за двух сыновей или восьмерых кузенов” (50%*2 или 12.5%*8 = 100%).
Поэтому идти на жертвы умеют отнюдь не только homo sapiens sapiens, но и все животные живущие в группах, связанных родством. Однако, есть у людей одно отличие: когда семейная группа охотников-собирателей становится большим цивилизованным обществом, степень родства с окружающими падает до сложно различимых величин. А проявление родового альтруизма по отношению к незнакомцам не имеет биологического смысла. Разве что, этих незнакомцев ну очень много.
Откуда же в больших обществах берутся люди, готовые бескорыстно помогать другим? Есть у биологии такое понятие — реципкроктный альтруизм. “Ты мне — я тебе”. По сути тот же эгоизм, только отложенный во времени. Как это работает в случае филантропии подробно разобрано в книге американского зоолога и журналиста Ричарда Кониффа — “Естественная история богатых”.
Великодушие как борьба за ранг
У социальных животных обычно существует иерархия. Высокий ранг — это хорошая еда и внимание противоположного пола. У многих видов повышение статуса вызывает внешние физиологические изменения: они меняют окраску, отращивают яркие плавники и хохолки, острые рога и клыки.
Но самые важные перемены происходят внутри. Исследования показывают, что макаки-резусы откликаются на повышение ранга увеличением выработки серотонина — любители “Прозака” знают, что с недостатком серотонина связаны хронические депрессии. У проигравших спортсменов после матча отмечают снижение уровня тестостерона, у выигравших — повышение. А с понижением статуса, напротив, растет уровень стрессовых гормонов (например, кортизола).
Ранг можно завоевать при помощи жестокой расправы над соперниками, но есть и другие способы. Его можно заслужить — и здесь мы подходим к сути — будучи всеобщим благодетелем, альтруистом. Исследователь шимпанзе Франс де Вааль (“Политика у шимпанзе”) описывает случай, когда шимпанзе по кличке Нтологи 10 лет ходил в альфа-самцах благодаря своей щедрости при дележке добычи — бывало сам не доедал, но отдавал мясо своим собратьям.
Если даже охочие до драки шимпанзе используют такие стратегии, то что говорить о людях? Добиться положения в обществе при помощи грубой силы можно лишь в отсталых странах и средних классах общеобразовательной школы. В условиях цивилизации, ранг гораздо быстрее обеспечат щедрость и великодушие. В уме неизбежно всплывают средневековые пиры и современные фуршеты. Политики-популисты, подкупающие избирателей щедрыми социальными программами и не упускающие случая засветиться при открытии больницы или детского сада.
Причем добрые дела ради общественного признания легко превращаются в зависимость — серотонин дело такое, любители “Прозака” знают.
Слабоумие и отвага
Какие качества являются главными для достижения ранга? Приматолог Джейн Гудолл, описывает разных альфа-самцов шимпанзе и отмечает — все они хотели доминировать настолько сильно, что показывали чудеса упорства и бесстрашия. Так один альфа-самец девять раз за пятнадцать минут нападал на соперника, чтобы прогнать того с ветки (вероятно, самки могли бы сказать об этом самце “проще дать, чем объяснить почему нет”). Другой альфа-самец по кличке Майк, спасаясь от пятерых преследователей, неожиданно перешел в контратаку и обратил их в бегство, продемонстрировав смелость на грани идиотизма.
Очевидно, особи выбравшие альтруизм своей стратегией доминирования должны проявлять такие же качества, но уже на этом поприще. Они могут лезть с благотворительными миссиями в самое пекло военных конфликтов, храбро возиться с заразными больными и голыми руками вытаскивать детей из пожара. Мы видим в этом подвиг во благо общества, но на самом деле так проявляется стремление к доминированию, примерно как у шимпанзе Майка.
Подчас это стремление не учитывает желания самих объектов помощи. В книге Кониффа есть эпизод, в котором альфа-самец арабской говорушки догоняет испуганного бета-самца и чуть ли не насильно скармливает ему личинку. Чтобы тут же громкой трелью оповестить окружающих о своем благородном поступке. А сколько среди людей есть желающих облагодетельствовать собрата помимо его воли?
Инвестиции и социальный капитал
Согласно Кониффу, сильные мира сего готовы рвать врагов на части, но не упускают шанса продемонстрировать великодушие. Подчас так, что это выглядит издевательством. Например, семья герцога Мальборо кормила бедняков вкусной кашей из объедков со стола. Когда Консуэла Вандербильт вошла в это семейство, она проявила чудеса гуманизма, предложив раскладывать разные объедки в разные банки — бедняки, говорят, были в восторге.
Но меценатство — не просто статус, но еще и выгодные инвестиции. Медиа магнат Тед Тернер сказал открыто: «чем больше добра я делаю, тем больше денег получаю», а бизнесмен Роберт Лорш даже посчитал, что получает от 1.01 до 2 долларов на каждый доллар вложенный в благотворительность. Пожертвования Лорша на исследования рака позволили ему стать одним из первых инвесторов, вложивших деньги в прибыльную линию по производству медицинских препаратов. А знали бы мы имя финансиста Джорджа Сороса, если бы не его всемирная сеть благотворительных организаций?
Прибавлю к этому такое понятие как “социальный капитал” — социальные связи, которые являются ресурсом для получения выгоды. Сколькими полезными связями можно обзавестись, вступив в клуб филантропов и получив возможность общаться с капитанами бизнеса, их ручными политиками и звездами культуры? Воистину, благотворительные вечеринки — это масонские ложи сегодня.
Фейсбучный груминг
Но чего в первую очередь желают филантропы? Есть один эксперимент, проведенный в 2009 году. Вкратце: в обезьяньем обществе существует услуга под названием “груминг” — одна обезьяна вычищает шерсть другой, избавляя ее от паразитов и кристаллов соли. Груминг является своего рода валютой — его можно обменять на секс, еду или помощь в конфликте (если должник не оказывает ответных услуг обезьяны негодуют и запоминают подлеца).
Ученые взяли стаю мартышек-верветок, выявили в ней низкоранговых самок и подстроили дело так, чтобы те смогли внезапно облагодетельствовать стаю большим количеством еды. Как и ожидалось, объемы груминга получаемого этими самками возросли многократно.
Груминг — важный метод формирования социальных связей, но трудозатратный и медленный. Ученые предполагают, что в человеческом обществе груминг заменила вербальная похвала (подробнее эту тему развивает А. Марков в книге “Эволюция человека: обезьяны, нейроны и душа”). Вместо нервных окончаний на коже, мы напрямую стимулируем эго собеседника. Это куда эффективнее. Ведь пламенной речью можно зажечь целую толпу, и целая толпа может поглаживать эго одного оратора.
Письменность и средства массовой информации еще больше расширили горизонты. Когда люди совершают публичные акты альтруизма — они ожидают лести так же, как ждет груминга мартышка. А с появлением социальных сетей груминг стал выражаться в лайках, репостах и восхищенных комментариях.
Гандикап и понты
И последнее составляющее секрета филантропии. Долгое время загадкой для биологов был механизм появления у животных таких признаков и форм поведения, которые лишь портят им жизнь. Классическим примером является хвост павлина или райской птицы, который не только служит рекламным щитом для хищников, но еще и затрудняет движение.
Израильский биолог Амон Захави объяснил это тем, что наличие хвоста служит сигналом для самок. “Раз самец сумел выжить несмотря на ЭТО — значит он сильный и ловкий самец”. Аналогичным образом самец антилопы может скакать перед носом у хищников. “Раз дразнит льва и живой — значит этот парень реально быстрый” — должна подумать восхищенная самка.
Называется “принцип гандикапа”. Проще говоря, понты.
Понты бывают разные — пьянство, наркомания, экстримальные виды спорта — посмотрите сколько у меня здоровья! А можно прикуривать при помощи крупной купюры или купить золотой унитаз со стразами от Swarovski — посмотрите сколько у меня денег! Подобное обычно творят неопытные нувориши и президенты постсоветских республик. Но многомудрые “старые деньги” предпочитают совмещать приятное с полезным — тратить средства на благотворительность. “Если он потратил миллион на голодающих негритят, то сколько же у него осталось? И вообще он видный филантроп, позовем-ка его сыграть в гольф, заодно обсудим ту сделку с недвижимостью …”
А если денег недостаточно — тратьте другие ресурсы. Например, время. Можно прямо заявить: “я настолько крут, что могу работать 4 часа в неделю и развлекаться, когда вы-лузеры сидите в душных офисах”. А можно постить фотки того, как вы гладите котиков, пока все остальные зарабатывают на хлеб насущный. Но есть способ лучше — волонтерство. Тогда вас никто не назовет бездельником и дауншифтером, и вы получите много приятного груминга.
***
Поэтому не должно вызывать удивления зрелище того, как заслуженные филантропы лезут под теплое крыло политиканов и приторговывают своим добрым именем. Достаточно вспомнить шимпанзе и верветок, как все становится на свои места. Еще глупее удивляться сумочкам, часам и автомобилям — это такой же “хвост райской птицы”, как и сама благотворительность.
ПОЧЕМУ НУЖНО СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ
Теперь самое время поговорить о том, почему благотворительность — это бесценный общественный институт. Почему филантропы заслуживают нашего восхищения независимо от своей истинной мотивации.
Возьмем нечто полезное для всех — например, больницу. Каждая отдельно взятая семья не способна оплатить строительство больницы. Тем более, профинансировать систему образования медперсонала. Таким образом, больница вместе с персоналом становится общественным благом, существование которого зависит от кооперации большого количества людей. Увы и ах, эта кооперация не может базироваться на чисто экономических механизмах.
Первоначальные затраты на строительство больниц и системы образования слишком велики, а горизонт планирования людей слишком мал. Большинство слишком надеется “на авось”, чтобы пойти на траты ради призрачного “а вдруг”. И даже если большому количеству семей удастся договориться о совместных тратах — каждой будет выгодно в последний момент передумать и получить все бесплатно (подробнее об этой проблеме коллективного действия — у экономиста Мансура Олсона). Можно отлучать обманщиков от пользования благом, но тогда начнутся митинги под лозунгом “медицина — право, а не привилегия” и прочая борьба за социальную справедливость за чужой счет.
Предположим, что больница может функционировать за счет оплаты своих услуг. Но ее строительство все равно потребует инвестора, готового ждать окупаемости много лет. Найти много таких инвесторов для реализации, скажем, национальной программы здравоохранения — большая проблема. Тем более, что долгосрочные инвестиции имеют смысл лишь в стабильных правовых обществах, которых на свете совсем не много. Во всех остальных есть риск, что завтра явится народный команданте Фидель Чавес, который объявит национализацию и вырвет собственность из рук алчных буржуев под бурные аплодисменты общественности.
В итоге остаются два варианта
Первый вариант — государственное принуждение. У всех отнимут средства в виде налогов и пустят на больницы-школы-дороги, за которыми будут следить специально дрессированные чиновники. Такой подход практикуется во многих странах, включая нашу. И как это выглядит на деле вы знаете не хуже меня.
Существенная доля средств при этом уходит на корм и дрессировку чиновников. А они как ни странно тоже люди — любят вкусно пожрать и сладко поспать. Оттого заинтересованы, чтобы денег через них проходило побольше. Поэтому государство предпочитает вовсе не в самые эффективные решения проблем, а самые дорогостоящие и трудозатратные (по этому феномену хорошо оттоптался гарвардский экономист Дэвид Левитт в книгах “Фрикономика” и “Суперфрикономика”). Поэтому государство — слон в посудной лавке. Туда, где нужна аккуратная деревянная лавка, притащит огромное бревно, учинив по дороге бардак с разгромом.
Хуже того — слон слепой и глухой. Ведь о важности социальных проблем сигнализирует готовность людей оплачивать их решение. Но государство не чувствует этих сигналов — его прибыли не зависят от качества решений, а зависят от работы налоговой полиции. Поэтому чиновникам все равно — решать важные проблемы или с умным видом заниматься полной ерундой. В идеале предполагается, что государство ведет некую статистику, на основе которой честные и благородные бюрократы самоотверженно служат обществу. Но в реальности получается наоборот — служить предпочитают себе, негодяи этакие.
Теперь второй вариант — благотворительность. Но благотворительность анонимную и безвозмездную сразу вынесем за скобки. Ведь система должна обладать запасом прочности — работать даже в том случае, если ее заполняют максимально эгоистичные особи. Поэтому примером благотворителя будет эгоист, который стремится повысить статус, заработать социальный капитал и удовлетворить свое тщеславие. Что же он будет делать? Оказывается, он заинтересован решать самые животрепещущие проблемы социума — ведь так он получит максимум отдачи. Он тратит свои кровные средства, следовательно он заинтересован в поиске решений оптимальных с точки зрения баланса стоимости и эффективности.
Поэтому неудивительно, что частные благотворительные фонды спонсируют реально важные вещи вроде борьбы с раковыми и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тогда как государственная содержанка ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) который год тратит астрономические суммы на бессмысленный крестовый поход против курения. Неудивительно также, что чиновники атакуют частные фонды с обвинениями в духе “мешают работать” — ведь это конкурентная борьба за общественные средства, в которой государство проигрывает и может лишь сломать шахматную доску об голову оппонента.
Надежду вселяет тот факт, что есть в мире страны, где немалая доля общественных благ обеспечивается за счет филантропии. По статистике каждая американская семья жертвует от 13% до 6% своего дохода. Каждый второй житель США занимался волонтерской деятельностью. Волонтерская активность — такая же важная характеристика американского студента, как успеваемость или спортивные успехи. Бездуховные американцы находятся на первом месте мирового рейтинга филантропии, одухотворенные россияне — на 123-ем. Вот с кого надо брать пример.
Поэтому благотворительность нужно поддерживать: восхищайтесь благотворителями, давайте им необходимую для стимуляции серотониновых рецепторов дозу груминга! По возможности, сами жертвуйте и волонтерствуйте. И не забывайте писать об этом в фейсбук.
Но не все так просто!
Нередко случается, что и частные благотворительные фонды пускают средства на ветер и превращаются в этакий в аналог министерств. Так происходит, когда большинству меценатов хочется пожинать лавры и тусоваться на вечеринках, а парить голову финансовыми отчетами — совсем не хочется. Появляются профессиональные благотворители, которые работают за зарплату, по своей мотивации уже не отличаясь от бюрократов. И если попечительский совет состоит из жен олигархов, которые хотели бы открыть салон стрижки мэйкунов, но не знают как писать бизнесплан — дело плохо.
Не успеешь оглянуться, как гранты пойдут не на исследования генома, а на какие-нибудь gender studies. Сотрудники фонда начнут получать зарплату десятикратно превышающую среднюю по стране — святые ж люди, им можно! Лекарства для детей примутся закупать у зятя директора по невиданным ценам, а производить в Душанбе по методу гомеопатии из мочи молодого поросенка. Самым важным подразделением фонда станет его PR-отдел, набранный в ближайшем курятнике. В общем, не фонд уже, а какой-то Минздрав.
Лекарство от этого одно — беспощадная критика. На головы меценатов, конечно, нужно водружать лавровый венок. Но при малейшем подозрении вспоминать о том, как поступили с первым благотворителем Прометеем мудрые олимпийские боги: приковали к скале и послали специального критика клевать ему печень. Этим и закончу: видите, что филантроп халтурит — бейте в печень.