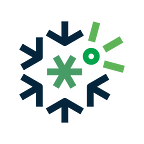На реках Вавилонских
Сериал Земля раскопок (сезон 2, серия 5)
Проект «Идеи без границ» культурного центра Бейт Ави Хай
Ведущая: журналист Эфрат Шапира-Розенберг
Гость: Питер Зильберг — доктор ассириологии, приглашенный научный сотрудник университетов Вены и Сиднея.
Эфрат Шапира-Розенберг (Э. Ш.-Р.): Добро пожаловать на очередную серию программы «Земля раскопок: беседы об израильской археологии».
Первый сезон мы закончили на разрушении Первого храма и начале Вавилонского плена. Второй сезон мы начали с возвращения в Сион, довольно быстро перейдя к тому, что происходило здесь после начала строительства Второго храма. Сегодня мы оставим в стороне то, что происходило здесь после разрушения и восстановления, чтобы на некоторое время вернуться к тем, кого мы оставили в конце первого сезона, группе изгнанников в Вавилонии, к тем, кто сидел на реках Вавилонских и плакал, вспоминая Сион. Что с ними произошло с тех пор? Перестали ли они оплакивать Сион, и если да, то с какого момента? Когда они начали обустраиваться в Вавилонии? Сколько из них вернулось во время возвращения в Сион? И как жили те, кто не вернулся, а их было очень много. Несмотря на то, что мы представляем программу об археологии Израиля, сегодня мы оставим в стороне как археологию, так и Израиль. Речь пойдёт о самой большой в древности еврейской общине диаспоры — о вавилонских изгнанниках. Для этого мы должны познакомиться с другой научной дисциплиной — ассириологией. И наш сегодняшний гость — ассириолог, доктор Питер Зильберг, научный сотрудник программы им. Мартина Бубера в области гуманитарных и социальных наук. Здравствуйте, доктор Зильберг.
Питер Зильберг (П. З.): Здравствуйте, Эфрат. Очень рад, что вы меня пригласили.
Э. Ш.-Р.: Что привело вас к занятиям ассириологией? Мне трудно представить ассириологию чьей-то детской мечтой. Вы вряд ли в детстве говорили, что мечтаете стать ассириологом?
П. З.: Конечно, нет, и родители вряд ли ожидали этого, но так вышло. Я всегда любил языки и интересовался историей нашего региона, особенно в том, что касается библейской истории. Когда я попал в университет, то меня увлёк мир древних региональных языков, благодаря которым можно узнать много неожиданного про древний Ближний Восток.
Э. Ш.-Р.: Название «ассириология» отчасти вводит в заблуждение, это ведь не в узком смысле исследования Ассирии? Что такое вообще ассириология?
П. З.: «Ассириология» — это название, которое закрепилось за профессией в начале XIX века. Когда начались первые археологические раскопки, то англичане, немцы, и французы сосредоточили свои усилия в районе сегодняшнего Северного Ирака, где находились столицы великой Ассирийской империи, известной нам, в том числе, из библейских книг. И это название закрепилось за всей областью исследований клинописных языков. Регион, в котором использовалась клинопись, очень велик: от современной Турции до юго-западного Ирана, включая Землю Израиля, Сирию, Ливан, и даже Египет. Так что «ассириолог» — не совсем точное определение того, чем я занимаюсь. По сути, я — историк древнего Ближнего Востока, но меня по-прежнему называют ассириологом, поскольку это традиционное название дисциплины.
Э. Ш.-Р.: Вы, по сути, используете инструментарий ассириологии для исследования идентичности, не так ли?
П. З.: Да, ассириология, как любое регионоведение, занимается обществом, культурой, историей, религией определённого региона. Существует много разных ответвлений ассириологии: поэзия, заговоры и магия; есть, конечно, ассириологи, которых интересует история, хронология событий. Моя область — это социальная история; прежде всего, исследование идентичности групп чужестранцев и мигрантов. Эти исследования важны не только для ассириологии, но и для библеистики и еврейской истории. Некоторые из нас ещё помнят, что такое быть изгнанником. Это касается, конечно, и меня, но для меня древний мир и современный всё же отделены друг от друга. Я занимаюсь тем, что происходило много тысяч лет назад. Из сегодняшнего дня о многом просто нельзя судить.
Э. Ш.-Р.: Вы говорите об изгнании, об идентичности изгнанников. Мы живём этим до сих пор: мы были в рассеянии, вернулись, пытаемся разобраться с тем, кто мы такие сегодня. Вы говорите, что исследуете то, что происходило сотни и тысячи лет назад. Актуально ли это всё сегодня?
П. З.: Да, сегодня актуальны, прежде всего, некоторые механизмы идентичности: что значит быть чужаком в новом месте, «я стал пришельцем в чужой земле» (Шмот, 2: 22). Эти вопросы относятся не только к современному миру — когда мы попадаем в США или Европу и чувствуем, что всё другое — язык, названия, обычаи, культура. То же самое происходило и в древнем мире. Мои исследования наглядно показывают, что речь идёт об одних и тех же моментах. Люди, которые становятся пришельцами в чужой стране, всегда сталкиваются с одними и теми же сложностями.
Э. Ш.-Р.: Именно об этом мы и поговорим с вами сегодня. Мы хотим убить сразу двух зайцев. Поговорим о конкретной группе вавилонских изгнанников, которых изгнали отсюда после разрушения Первого храма, о том, куда они попали, и как они жили. И в то же время постараемся сохранить более широкий ракурс, рассмотрим тему изгнанников и мигрантов в целом. Давайте начнём с этой конкретной группы, с которой мы немного знакомы из библейского повествования.
П. З.: Одно из свидетельств о ней появилось до возникновения ассириологии и обнаружения клинописных текстов в XIX веке. Иудейское царство видит, как в VIII в. до н. э. было разрушено Израильское царство и как были изгнаны 10 колен; «с севера начнётся бедствие» (Ирм., 1:14). Более века спустя вместо ассирийцев на Землю Израиля пришла Вавилонская империя. В 612 г. до н. э. она стремительно захватила его, и в 597 г. до н. э. депортировала первую группу еврейского населения.
Э. Ш.-Р.: Это называется «изгнанием ремесленников и кузнецов» (Млахим 2, 24:16), верно?
П. З.: Да, «изгнание ремесленников и кузнецов» — или изгнание Йехояхина, молодого царя, только взошедшего на престол. Он сразу попал в сложную политическую ситуацию, когда могущественный вавилонский царь, уже разрушивший множество городов, осаждает Иерусалим. Ему приходится уйти в изгнание, вероятно, вместе с «лучшими людьми» города, искусными мастерами.
Э. Ш.-Р.: В отличие от нынешних представлений, именно они и были тогда элитой?
П. З.: Да, это профессионалы, которые обеспечивали повседневное функционирование своих городов. Их изгоняют в 597 году. Все знают, что на этом проблемы не кончились, потому что спустя несколько лет, в 586 году, Навуходоносор снова появляется в Иудее. На этот раз он отправляет в изгнание не одну конкретную группу людей, а большую часть населения Иудейского царства. Царь Цидкияху пытается спастись бегством, его настигают, и начинается то самое изгнание, о котором мы все знаем. Группы иудеев совершают длительные пешие переходы на сотни километров, из Иудеи до юга сегодняшнего Ирака. Путь трудный и изматывающий, не все дошли, но в конечном итоге они приходят в другой мир. Этот мир в чём-то похож на Страну Израиля, но здесь говорят на другом языке, здесь другая культура, культ многобожия. Меняется среда обитания: вместо небольших иудейских городков они оказываются в могущественных гигантских городах Вавилоне или Уруке. Они видят мир, сильно отличающийся от привычного, сталкиваются с множеством проблем переселения в чужую страну. У этих проблем своя специфика: как выживать после длительного перехода на тысячу километров? Какими средствами ты располагаешь? Кто обеспечит тебя работой, чтобы ты мог построить свой первый дом или пережить первую зиму, которая вот-вот наступит? Зимой надо иметь запасы продуктов. Как с этим всем справляться?
Э. Ш.-Р.: Давайте вернёмся к вопросу, который мы много обсуждали в первом сезоне нашей программы, а именно — взаимоотношения археологии и библейского повествования. Здесь возникает похожий вопрос о стыке библейского повествования и ассириологии. Что из библейского повествования, которое вы сейчас пересказали, подтверждается наукой?
П. З.: Научных данных очень много. Надеюсь, мои коллеги библеисты на меня не обидятся, но именно ассириология внесла с XIX века важнейший вклад в исследование Библии: это касается мифологических повествований из региона Ассирии и Вавилонии, таких как вавилонский миф о потопе, и многих других. С начала XX века и до последнего времени регулярно обнаруживаются новые источники, благодаря которым описание становится более детальным и полным. Библейское повествование ограничено определённым количеством стихов, нам трудно извлечь из Библии что-то новое. А тут у нас появляются документы, прежде всего хозяйственные, административные и юридические, которые заполняют многие лакуны в этой картине.
Э. Ш.-Р.: Их обнаружение и публикация стали своего рода сенсацией. Мы говорим о нескольких типах архивов с документами, некоторые из которых относят непосредственно к «архиву Навуходоносора».
П. З.: Да, у нас есть несколько текстов из дворцового архива Навуходоносора II «Великого». Например, текст, в котором упоминается выделение продуктового довольствия Йехояхину и его сыновьям во время их пленения в Вавилоне. Я прочитаю две строчки оттуда: «Одна сеа для Йехояхина (его имя записано по-аккадски как «Якукину»), наследника престола Иудеи, 2,5 кава для пятерых сыновей царя Иудеи, под ответственность Канаяху», из имени которого понятно, что он иудей. Это очень ранние документы, относящиеся ко времени правления Навуходоносора. Они описывают менее известную сторону жизни Йехояхина. Из Библии мы знаем, что он отправляется в изгнание, но ничего не говорится о том, что с ним происходит. Здесь же мы не только обнаруживаем, что он и его сыновья находятся в Вавилоне, но также узнаём, что они получают продуктовое довольствие в царском дворце.
Этот факт значительно дополняет рассказ об этих изгнанниках. Йехояхин и его свита, царский двор Иудеи, местная аристократия, находятся на содержании царского дворца, а значит, как следует из этого документа, их жизнь всё-таки не настолько ужасна. По крайней мере, за иудейскую аристократию мы теперь можем не так сильно волноваться.
Существуют и исторические описания, касающиеся основного изгнания. Мы знаем, как Ирмеяху говорит народу, что они находятся на пороге изгнания. В книгах Царств описываются подробности изгнания. С другой стороны, у нас есть вавилонское описание тех же событий, довольно сухое. С их точки зрения, Иудея — ещё одна территория, которая попала под вавилонский пресс, была завоёвана, разграблена и опустошена (эмоции у них появятся после падения Вавилона).
«В седьмой год царствования Навуходоносора в месяц кислев (вавилонские месяцы знакомы нам по еврейскому календарю) аккадский царь Навуходоносор собрал своё войско и выступил в направлении Хати (на запад от Евфрата). Он встал лагерем у города Иуда (это Иерусалим) и во второй день месяца адар захватил город и пленил царя (имеется в виду Йехояхин). Он назначил своего царя-наместника в городе и вернулся в Вавилон с большими трофеями».
Это сухое описание демонстрирует точку зрения вавилонских царей на всю эту историю: пришли, разграбили, вернулись домой.
Э. Ш.-Р.: Veni, vedi, vici.
П. З.: А в библейском повествовании мы видим «взрывную волну». Как в текстах эпохи разрушения Храма, так и в более поздних библейских текстах, это очень сильно ощущается.
Э. Ш.-Р.: Потрясающе, что эти тексты были обнаружены, и мы можем узнать о событиях с вавилонской стороны. Это один их тех случаев, когда внешние источники подтверждают библейское повествование. Со стороны библейского повествования нам очень не хватает знания о том, что произошло с этими людьми, когда они попали туда. В Библии об этом не говорится.
П. З.: Верно, библейское повествование после разрушения Храма, в частности книга Йехезкеля, даёт некоторое понимание условий, в которых жили эти люди, но сосредоточено не на повседневности. Тем не менее, его важно иметь в виду. Даже к вдохновенным литературным текстам, как у Йехезкеля, можно добавить историческую фактологию.
Из ассириологии нам известно 400–500 текстов, в которых упоминаются иудеи на разных территориях в VI–V вв. до н. э. В большей части этих документов, речь идёт о повседневной жизни этих изгнанников: чем занимались, кем работали, как называли детей, с кем заключали сделки, где и как жили. Обо всём этом Библия молчит, потому что у неё другие интересы. Но когда мы берём эти описания и сопоставляем с библейским повествованием, мы можем обнаружить много точек соприкосновения, причём довольно удивительных.
Э. Ш.-Р.: Давайте начнём с вопроса: где они находились? Мы видим на экране карту Вавилонии и приблизительный маршрут их перехода. А откуда нам об этом известно?
П. З.: Я скажу пару слов о различии между Вавилонским изгнанием и тем, что произошло с 10 коленами. Изгнание 10 колен произошло раньше, около 720–22 гг. до н. э. Этих изгнанников из Израильского царства, о которых мы тоже читаем в аккадских текстах, рассеивают очень маленькими группами в деревнях по всей территории империи. С вавилонскими изгнанниками произошла другая история. Их изгнали одной большой группой (тысячи, если не десятки тысяч людей), и после долгого изнурительного перехода их расселили по нескольким крупным городам Вавилонии, что дало им возможность сохранить свои общины. В этом главное отличие от изгнания 10 колен.
Э. Ш.-Р.: Да, это очень важно. Не случайно все ищут пропавшие 10 колен — куда они делись, кто их потомки; в отличие от вавилонских изгнанников, о которых мы более или менее знаем, кто они, и что с ними происходило практически на всём протяжении истории.
П. З.: То, что их расселили на компактных территориях большими группами, позволило им выжить и сохранить свою идентичность. Часть этих изгнанных иудеев принадлежали к элите общества, к аристократии. Им удалось поселиться в больших городах — Вавилоне, Уруке, Ниппуре, Сиппаре.
Э. Ш.-Р.: Нужно уточнить, что Вавилон — это название города.
П. З.: Да, по имени которого было названо царство. Вавилон — это город-государство, а затем империя. Такое явление характерно для многих городов-государств: Ассирия (Ашур) — это тоже название города, которое потом стало относиться и к империи.
Они попали в город Вавилон. И там некоторые из них, вероятно, занимались торговлей и профессиями, связанными с царским двором. Их род занятий был связан с их аристократическим происхождением, и с тем, что они, вероятно, были лучше обеспечены. С другой стороны, большинство иудеев проживали не в больших городах, а скорее в сельских поселениях на периферии Вавилонского царства, в деревнях с несколькими сотнями жителей. Основным их занятием было земледелие — выращивание фиников, пшеницы, ячменя, кунжута. Большинство иудеев попали в основном на периферийные территории, и среди этих маленьких поселений одно представляет для нас особый интерес. Оно находится к югу от Ниппура, центрального вавилонского города между Тигром и Евфратом. В более ранний период оно называлось «Город Иудеев», алуш а-йехудайа, а в более поздний период — «Город Иудеи». Как мы видели в вавилонской хронике, именно так, «Городом Иудеи» в ней называется Иерусалим, так что получается интересная параллель.
Э. Ш.-Р.: Это напоминает, как мигранты в Америке давали названия городам. Выходцы из Йорка назвали свой город Нью-Йорком. По тому же принципу появились Нью-Амстердам и другие города, даже без Нью. А могли назвать город Вифлеемом или Назаретом — в честь мест, о которых мечталось.
П. З.: Именно так. У иудеев среди всех этих маленьких поселений тоже было одно с названием, напоминавшим о месте исхода.
Подобно ему нам известны другие поселения групп изгнанников того же периода. Например, известны поселения филистимлян, изгнанных из Ашкелона и Газы. Целый ряд городов, которые мы называем «зеркальными», были заселены разными группами изгнанников, не только иудеями. Их города находились в нескольких десятках километров друг от друга, на расстоянии одного-двух дней пути — города жителей Иудеи, Газы, Ашкелона — у каждой группы изгнанников было место, оставившее след на карте Вавилонии.
Э. Ш.-Р.: То есть вавилоняне изгнали множество разных групп из нашего региона и поселили их примерно в одних и тех же районах — в сельских поселениях на периферии, как вы сказали, а не в больших городах. Ради чего? В чём была их цель?
П. З.: Цель здесь очень важна. Район в центре Вавилонского царства, в котором поселили иудеев и других изгнанников (юг современного Ирака), сильно пострадал в предшествующие двести лет из-за непрекращающихся войн между Ассирией (север современного Ирака) и Вавилонией. Борьба за власть, войны, имперские амбиции — всё это привело к разрушению и запустению этого региона. И когда вавилоняне взяли верх в этой борьбе и получили полную власть, они поняли, что в самом центре их царства есть заброшенная территория, которую можно и нужно заполнить, переселив туда изгнанников.
Э. Ш.-Р.: Незащищённую группу населения.
П. З.: Совершенно верно: берёте их, забрасываете за тысячу километров от дома, в самое сердце вашей империи, даёте им небольшой земельный надел, они должны платить налоги, проходить службу в армии либо заниматься общественными работами («царское бремя»). Таким образом, вы можете вернуть к жизни центральные области своего государства, и вместе с тем на этом заработать.
Э. Ш.-Р.: Всё, что вы сейчас рассказали, мы знаем из первоисточников — клинописных текстов, которые происходят из этой деревни, из иудейского поселения, и называются «тексты из аль-Яхуду». Расскажите немного об этих текстах. Кто и как их обнаружил? Кто расшифровал?
П. З.: Это невероятно ценные документы и для ассириологии, и для истории еврейского народа. В сущности, они дают нам представление о первых поколениях вавилонских изгнанников. Самый ранний документ из «Города Иудеев» датируется 572 годом до н. э., а самый поздний — примерно 480 годом до н. э.
Э. Ш.-Р.: На инфографике распределения документов на оси времени видно, что они начинают появляться спустя несколько лет после разрушения Первого храма и охватывают период вплоть до строительства Второго храма.
П. З.: Эти документы рассказывают историю «Города Иудеев» в период правления двух могущественных империй, Вавилонской и Персидской. Кир завоёвывает не только Вавилонию в 539 году до н. э., но и весь древний мир — ойкумену. Мир меняется, а жизнь маленького поселения идёт своим чередом, несмотря на смену империй.
Все эти тексты, а их около двухсот, были опубликованы совсем недавно, и публикация ещё не закончена. Про них стало известно только в последние десятилетия. Их происхождение не до конца выяснено, они попали к нам через рынок древностей.
Э. Ш.-Р.: В скобках замечу, что в предыдущем сезоне мы посвятили целый эпизод грабителям древностей и сложным путям, которыми древние артефакты попадают к коллекционерам. В данном случае вас не интересует вопрос, где их выкопали, откуда они взялись, кто их «украл», как они попали к коллекционерам. К вам эти документы попали из частных коллекций, каких именно?
П. З.: Эти документы появились в собрании Давида Софера, и сегодня большая часть из них находится в экспозиции Музея библейских стран.
Э. Ш.-Р.: То есть вы их просто получили и начали расшифровывать?
П. З.: Да. Ассириологи, конечно, всегда пытаются найти археологический контекст. Нет большей удачи, чем найти исторический источник в месте его появления, в буквальном смысле достав его из-под земли. К сожалению, в целом, исторические источники древнего Ближнего Востока с начала XIX века и до сего дня проходят через рынок древностей. Большинство собраний подобных артефактов в крупнейших музеях мира сформировались таким образом. Представители музеев скупали древности на территории современной Сирии и Ирака. Мы, ассириологи, пытаемся сохранить хотя бы часть информации и соотнести её с накопленным массивом общих знаний об этой эпохе. Документов из аль-Яхуду около 400 (тех, в которых упоминаются иудеи), из них 200 происходят непосредственно из этого поселения, «Города Иудеев». Общее количество дошедших до нас административных, юридических и торговых документов из Вавилонии VI–V вв. до н. э. оценивается в 100 000 экземпляров. То есть у нас есть большое количество дополнительных исторических источников, благодаря которым можно заполнить недостающий элемент в паззле — еврейский.
Когда мы подходим к этим документам как историки, они вписываются для нас в совершенно определённое пространство и вписываются в него удивительно точно. Например, в них упоминаются те же названия каналов, которые нам известны от той эпохи. Отмечу, что каналы — это «автострады» Ирака.
Э. Ш.-Р.: Давайте посмотрим какой-нибудь документ, через который можно определить места, знакомые нам, в том числе, из Библии. Мы знаем, что Йехезкель стоит у реки Кевар, и он находится среди изгнанников в Тель-Авиве.
П. З.: У нас есть прорисовка, которую мы сделали с профессором Лори Пирсом и профессором Михаэлем Юрсом. Это один из документов, дошедших до нас из «Города Иудеев» и его окрестностей. В нём упоминается, что рядом с Городом Иудеев есть небольшая деревня на берегу реки Кевар. Это название нам известно, прежде всего, из других девяти клинописных текстов, из которых мы знаем, где и когда она была выкопана. С другой стороны, про эту реку мы знаем из книги Йехезкеля. Йехезкель прибывает к изгнанникам на реку Кевар, и там пророчествует. «Кевар» по-аккадски — «большая река».
Э. Ш.-Р.: Как автострада.
П. З.: Именно так. И в аккадском языке нет различий между природными реками и каналами, потому что и те, и другие существовали издревле. Про реку-канал Кевар известно, что она была выкопана в течение VI в. до н. э., имела в длину несколько сот километров, начиналась от Вавилона и доходила, судя по всему, до Персидского залива. Это была, по сути, главная автострада, по которой можно было проплыть от Вавилона (это недалеко от сегодняшнего Багдада) до Персидского залива. И вот на берегу этой реки мы находим Город Иудеев и рядом с ним небольшую деревню, которая называлась «деревня на берегу реки Кевар». Таким образом, мы узнаём, что Город Иудеев, который прежде никак нельзя было локализовать, находился рядом с этим каналом. Канал упомянут и в Библии, а это даёт нам дополнительный контекст для повествований из книги Йехезкеля.
Э. Ш.-Р.: Другой топоним, который упоминается у Йехезкеля, Тель-Авив, тоже обнаруживается в этих документах?
П. З.: Конкретно в этих документах — нет. Но есть один текст, который сегодня выставлен в Музее Ирака в Багдаде, в котором упоминается город Тель-Авив (по-аккадски алуш а-тель-абуб).
Мы сегодня думаем, что Тель-Авив — это «холм / курган весны». Название современного Тель-Авива, конечно же, взято из книги Йехезкеля, но на самом деле значение этого аккадского топонима — «холм / курган потопа».
Если подумать, то зачем давать поселению, в котором поселились иудеи, название «курган потопа»? Но вспомним книгу Эзры, где рассказывается, что иудеи возвращались в Иерусалим с территории Вавилона из мест с такими названиями, как Тель-Мелах, Тель-Харши, и из разных других «Телей». Как я уже говорил, вавилоняне расселяли иудеев в разных маленьких поселениях на разрушенной периферии. Можно предположить, что селили их в большинстве случаев на месте некогда разрушенных поселений. Возможно, на каком-то месте не было поселения сотни и тысячи лет, а иудеи пришли, поселились на руинах и возродили его.
Вернёмся к Тель-Авиву. Это название можно отождествить с древним городом Шуруппак, мы с профессором Уэйном Хоровицем опубликовали об этом статью. В третьем и втором тысячелетиях до н. э. это был очень важный город, родина героя вавилонского мифа о потопе. Судя по всему, во втором тысячелетии до н. э. город был разрушен до основания. В VI в. до н. э. туда приходят иудеи и восстанавливают поселение. Возможно, к ним присоединяются жители окружающих поселений. В любом случае, им было известно, что в этом месте родился герой мифа о потопе, поэтому либо иудеи сами назвали это поселение «городом потопа», либо подобное название бытовало среди местного населения. Так что мы можем утверждать, что топоним в книге Йехезкеля — это не вымышленное место, потому что о нём у нас есть, по крайней мере, один административный документ.
Э. Ш.-Р.: Потрясающе.
П. З.: Если мы взглянем на карту, то увидим, что Шуруппак находится не так уж далеко от Города Иудеев. Речь идёт примерно об одном районе между вавилонскими городами Ниппур и Урук; в последнем было много иудеев.
Э. Ш.-Р.: Мы говорим о локализации, о датировке, о точках соприкосновения с Библией. Необходимо ещё одно малюсенькое предисловие, прежде чем мы с вашей помощью перейдём к чтению самих документов, рассказывающих нам о повседневной жизни изгнанников. Остался вопрос: что представляет собой клинопись и как мы её читаем?
П. З.: У клинописи свои преимущества и свои сложности. В клинописи есть знаки (их несколько сотен) и слоги; точно так же, как в некоторых современных языках, например, в китайском.
Э. Ш.-Р.: То есть речь идёт не о буквах и словах?
П. З.: Некоторые из этих знаков передают определённое значение, например, «солнце», «месяц»; на письме это один знак. А другие знаки — это слоги; например, имя Авияху будет написано так: аб-би-йа-ху.
Э. Ш.-Р.: Есть знак для каждого слога?
П. З.: Да, одни и те же самые знаки могут обозначать разные слоги. Это не слишком простая система, именно поэтому на определённом этапе она уступила место алфавиту. Но нужно помнить, что многие культуры во втором и первом тысячелетиях до н. э. восприняли эту систему письма. В частности, она применялась в восточносемитских языках. Вариацию этого письма использовали хетты, чей язык относился к индоевропейским. Есть и целый ряд упрощённых систем клинописи, одна из которых была, например, у персов.
Э. Ш.-Р.: Это напоминает латинское письмо, когда при помощи одних и тех же букв можно писать на французском, английском, немецком, испанском: в каждом месте язык свой, но письмо очень похожее.
П. З.: Да, с определёнными изменениями и адаптациями.
Э. Ш.-Р.: …связанными с потребностями каждого языка.
П. З.: В некоторых языках есть согласные, которых нет в других, или звуки, которые произносятся по-особому. Поэтому нужна адаптация.
Э. Ш.-Р.: То есть правильно будет сказать так: письмо клинописное, а язык аккадский?
П. З.: Совершенно верно. С одной стороны, эти тексты сегодня выглядят для нас чрезвычайно сложными, но не забывайте, что и в наши дни многие люди без проблем пользуются знаковыми системами письма. Понятно, что алфавит намного проще для письма и для чтения, именно он позволил большему числу людей соприкоснуться с письменностью, хотя бы на уровне знания своего имени или отдельных букв.
Э. Ш.-Р.: У нас есть любопытный артефакт на стыке двух систем письма — клинописи и алфавита: мы знаем, что изгнанники из Иудеи уже использовали алфавит.
П. З.: Да, у нас есть несколько примеров клинописных документов из Города Иудеев. Например, долговая расписка: иудей взял в долг у человека по имени Гумулу бен Бихаме (скорее всего, имя арабского происхождения) некоторое количество ячменя в Городе Иудеев. Судя по всему, этот парень по имени Шлемияху не мог читать по-аккадски, это сложный язык, его надо было серьёзно изучать много лет в школе для писцов.
Э. Ш.-Р.: А он был из Иудеи и языка не знал.
П. З.: Однако он знал другое письмо, алфавитное. И в этом документе писец или составитель написал рядом с основным клинописным текстом имя должника алфавитным письмом. Когда он придёт возвращать долг и потребует долговую расписку, то сможет опознать её как свою.
Это одна из самых убедительных гипотез, объясняющих появление здесь записи алфавитным письмом, и в то же время ещё одно доказательство тех трудностей, с которыми сталкивались иудеи, попавшие в чужую среду, где не просто говорят на другом языке, но и используют неизвестную им систему письма.
Э. Ш.-Р.: Такого рода трудности знакомы многим эмигрантам. В нашем разговоре и в самих документах всё время всплывает тема имён. Верно?
П. З.: Несомненно. С одной стороны, имена, встречающиеся в таких административных текстах, часто позволяют нам проследить семейную историю на протяжении двух, трёх, четырёх поколений. Например, у нас есть документы о разделении наследства, из которых можно с лёгкостью воссоздать семейное древо и узнать, какие имена в разных поколениях давались детям. Это очень важно, когда речь идёт об идентичности, потому что одна из самых важных проблем для людей, живущих в чужой среде: какое имя дать ребёнку? С одной стороны, вроде бы надо дать местное имя…
Э. Ш.-Р.: Чтобы вписаться в общество, не чувствовать себя чужим.
П. З.: Верно. И мы знаем немало иудеев, которые поступили именно так: дали своим детям вавилонские или арамейские имена. Некоторые брали двойные имена, одно — для вавилонского мира, а другое, еврейское — для использования внутри иудейской общины, мы видим это в документах. В то же время, встречаются сотни имён иудеев (более 260 имён в Городе Иудеев), в которых имеется теофорный элемент — имя или часть имени еврейского Бога, как в распространённых именах Йонатан, Йехояхин, Нетанияху, Матанъяху.
Э. Ш.-Р.: С добавлением «йа» или «йаху».
П. З.: Да, добавление этих элементов к имени собственному — характерная особенность людей, пришедших из Иудеи. Нам не известно ничего подобного в отношении других региональных божеств или других этнических групп. Когда мы начинаем исследовать имена изгнанников из Иудеи в первом, втором и третьем поколении, мы обнаруживаем огромное количество теофорных имён.
Интересно, что наиболее популярные имена в Иудее до изгнания продолжают быть популярными в изгнании. Например, имена с элементом «шалем», которые были популярны в Иудее до изгнания, продолжают существовать. Очень наглядно видно, как эта группа пытается доступными ей средствами сохранить свою идентичность через имена.
Есть имена, которые отражают исторические события и переход к новому способу существования в изгнании. Например, в одном из документов Города Иудеев есть имя Глайаху («изгнал Бог»). Казалось бы, оно напоминает о неприятном событии. Однако это травматическое событие оказалось настолько важным, что появилось соответствующее имя. С другой стороны, зафиксировано такое имя, как Йашув Цадик («вернётся праведник»). Возможно, когда был обнародован манифест Кира, семья была настолько взволнована им, что решила назвать так ребёнка; это имя может быть и символом тоски по старой родине.
Э. Ш.-Р.: Наш разговор об исследовании идентичности мы начали с того, что у любых изгнанников есть общие проблемы. Это и сегодня чувствуется: у меня большая часть семьи живёт в Северной Америке, и я вижу, что некоторые евреи или эмигранты-израильтяне дают своим детям очень еврейские имена, а другие — наоборот, пытаются сделать так, чтобы по имени нельзя было догадаться о происхождении. Есть опять же двойные имена — English name и Hebrew name; всё уже было в древности.
П. З.: Всё уже было, и надо отметить, что евреи не сильно отличались в этом плане от других групп чужестранцев. Все старались сохранить идентичность в первых поколениях. Отличие иудеев в том, что они продолжали сохранять эти имена спустя сто и двести лет после изгнания, а это уже не настолько характерно для других групп, либо нам пока не хватает знаний о подобных явлениях среди других групп. Обычно во втором или третьем поколении пришельцы переходят на местные имена, начинают заключать браки с местным населением, и группа перестаёт быть узнаваемой. А у иудеев даже в конце V века — 410–405 гг. до н. э. — мы находим группы, сохраняющие свои имена. Конечно же, были и те, которые вели себя иначе и ассимилировались.
Э. Ш.-Р.: Таким образом, есть два взгляда на цель пребывания группы в изгнании — ассимилироваться или изолироваться, и это отражается на именах. Другой важный индикатор — это браки. Смешанный брак — признак позитивной тенденции, интеграции и принятия местным населением, а с другой точки зрения, это признак чего-то плохого — потери идентичности, слияния с тем, от чего мы хотели бы отделиться. В документах есть и то, и другое, верно?
П. З.: Да, и многое определяется тем, как мы сами на это смотрим. В древнем мире экономический и социальный статус человека очень важен, именно он позволял человеку выжить. Не было никакой гарантии, что через год будет возможность прокормиться; необходимо было как-то выживать.
В одном документе из Города Иудеев говорится, что иудейская женщина, отец которой умер, выходит замуж за человека, чьё имя, вероятно, нееврейское. Об этом говорят и имена свидетелей: со стороны жены много свидетелей с иудейскими именами из Города иудеев, а со стороны мужа — свидетели с нееврейскими именами. Возможно, этот документ подтверждает существование смешанных браков.
Посмотрим на этот смешанный брак внимательнее. Что получает женщина от мужа, на каких условиях? Мы видим, что речь идёт о людях из сравнительно бедных слоёв населения, поэтому не исключено, что это вынужденный брак. Для многих людей это был единственный способ выжить — соединить себя узами брака с теми, у кого больше средств, влияния и статуса. Хотя, конечно, в этой среде никто не был особенно богатым.
С другой стороны, у нас есть множество свидетельств о заключении браков между иудеями. Мы знаем милую супружескую пару Рафайаху и Йафайаху из Города иудеев, их союз предусматривает взаимное пользование имуществом, и таких пар у нас много.
У более зажиточных слоёв, тех же самых торговцев, которые стремятся приобрести влияние и статус, есть проверенный способ для этого — укрепление семейных связей с местной аристократией. Местная аристократия — это богачи, люди, приближенные к царской власти и к царскому двору, а также жреческое сословие. Мы знаем, что у священников-кохенов особый статус в иудаизме; то же самое наблюдается во всех обществах древнего Ближнего Востока, включая Вавилонию: жрецы, как правило, женятся только на женщинах из жреческого рода.
Э. Ш.-Р.: Мы видим пример разных сословий внутри жречества?
П. З.: Да, внутри жреческого сословия тоже есть сословное разделение, определяющее их социальное положение. Есть те, кто заходят в святилище Храма — не в Святая Святых, а в святилище вокруг. Статус ритуальной чистоты этих людей отличается от тех, кто печёт хлеб, предназначенный для приношения божеству. Они старались не заключать браков за пределами своего сословия. И мы наблюдаем, как семьи чужестранцев пытаются связать себя узами брака хотя бы с низшими сословиями жречества — пекарями, мельниками, даже жрецами-уборщиками в вавилонских храмах. Брак с ними означает для изгнанников повышение социального статуса. Мы знаем одну семью иудейских торговцев из Сиппара, города на севере Вавилонии, которым удалось связать себя брачными узами с жреческой семьёй, которая, судя по всему, испытывала материальные трудности.
Таким образом, нет однозначной картины. Бывали смешанные браки среди определённых слоёв, но были и те, кто не заключал смешанных браков.
Э. Ш.-Р.: Даже напротив, пытались им воспрепятствовать из изоляционистских устремлений, такой документ мы тоже видим.
П. З.: Да, этот документ из того же вышеупомянутого города Сиппара. Речь идёт о человеке по имени Йешаяху, который приходит в суд при местном храме (судя по всему, у него были там связи) и составляет «заявление» по поводу своей дочери:
«В день, когда Табат-Ишар, дочь Йешаяху, встретится снова с Куллу, сыном Калбайа (явно не иудейское имя, тогда как Табат-Ишар, дочь Йешаяху, очевидно, иудейского происхождения), или если он возьмёт её развратным путём, а она не воспротивится и не напишет об этом отцу, Табат-Ишар будет заклеймена как рабыня».
Этим юридическим документом отец сообщает своей дочери, что если она воспротивится его воле и будет встречаться с этим парнем (мы не знаем ничего про него, про его социальное положение, знаем только, что он не был иудеем), то станет рабыней. Это очень тяжёлая ситуация для любой семьи; вместе с тем, она свидетельствует о том, что некоторые евреи пытались ограничивать контакты своих родственников с другими группами населения, может быть, даже не с конкретными религиозными группами, а с людьми другого экономического и социального статуса. Подобного рода границы знакомы нам и по XIX–XX векам. И приведённый документ сообщает нам, с одной стороны, о желании интегрироваться и повысить свой социальный статус через связь с более высокими слоями нееврейского общества, а с другой стороны — об этих границах.
Э. Ш.-Р.: Интересно, что испокон веков в группе изгнанников были и те, и другие.
П. З.: Конечно, два еврея — три мнения, так и должно быть.
Э. Ш.-Р.: Какие ещё свидетельства, касающиеся повседневных проблем, вы обнаружили в этих документах?
П. З.: Большая часть документов касается повседневной сельскохозяйственной деятельности этих людей. Но речь не о том, как выращивать финиковые пальмы; это не руководства по выращиванию финиковых пальм. Это экономические документы, составленные людьми, собиравшими налоги. Среди них, например, есть документы, в которых упоминается ежегодный налог с каждого иудея в Городе Иудеи. Этот документ замечателен ещё тем, что составлен в форме таблицы, как видно на изображении: в одном столбце — имя человека, в другом — размер его надела (половина или четверть нехлат кешет, это стандартный размер земельного надела), в третьем — сколько он должен заплатить за своё поле.
Э. Ш.-Р.: Это древний Excel для учёта местных налогов.
П. З.: Да, налогообложение всегда хорошо задокументировано, с этим всегда порядок, так было и в Городе Иудеев. Здесь опять встречаются имена вроде Йахукулу, Нихияху, Бнаяху, Ктавъяху, Авадъяху — много имён, происходящих из Иудеи. И среди тех, кто должен заплатить налоги, мы встречаем парня по имени Шиканъяху: судя по всему, его маленький надел не дал урожая фиников, и он оказался в очень сложном экономическом положении. И тогда писец местного сборщика налогов помечает напротив его имени, что у него нет фиников, и добавляет насмешливое прозвище к его имени — Шиканъяху-Риканъяху, то есть Шиканъяху-бедняк.
Э. Ш.-Р.: Рейк — значит «пустой». Рейканияху.
П. З.: Да, бедный иудей, у которого нет фиников, что отмечено отдельно.
Мы видим, что люди, которые пытались всего лишь выжить в тяжёлых условиях, иногда становились объектом насмешек. Насмешки над чужаками — тоже не новость. Такого рода вещи остаются в истории, даже в таких вроде бы сухих административных документах.
Э. Ш.-Р.: Большинство этих глиняных табличек содержат административные тексты, их можно назвать бюрократическими, а вы, учёные, пытаетесь добыть из сухой информации об уплате налогов или о заключении сделки сведения об их жизни, о социологии. Вы сами себя определили как «социальный ассириолог».
П. З.: Это одна из самых интересных вещей в административных, управленческих и юридических источниках. С одной стороны, это чаще всего довольно-таки сухие документы, с другой — мы знаем, что информация, которую можно из них получить, достаточно достоверна, ведь юридические подробности должны быть очень точными. Люди стараются как можно точнее записать имена, указать семейные связи, потому что у этих сведений есть юридические последствия.
Кроме того, таких текстов много и их можно сопоставлять. Так что из сухих документов вдруг возникает история, последовательность событий внутри одной семьи на протяжении многих лет: как они жили, был ли у них урожай, пришлось ли кому-то отправиться на заработки или по делам в другое место; всё это мы узнаём из юридических документов. Это не возвышенные и образные литературные тексты, но из них можно многое добыть.
Э. Ш.-Р.: Кстати, вы упомянули, что их призывали на царскую службу или в армию. Об этом мы тоже узнаём из документов, верно?
П. З.: Да, у нас есть несколько текстов с описанием исторической ситуации, когда иудеям было необходимо отправиться из Города Иудеев за 250 километров для работы на больших царских строительных проектах в Шушане (Сузах), уже в персидский период. Иудеев собирали в «бригады» и отправляли на работы в течение двух месяцев. Проблема понятная: никто не хочет совершать опасный и изнурительный переход на сотни километров, чтобы строить дворец чужого правителя в течение двух месяцев, а потом возвращаться домой без какой-либо компенсации.
Э. Ш.-Р.: Это такие «военные сборы», никто не хотел, чтобы их забирали.
П. З.: Да, естественно, всё было в принудительном порядке. Иудеи были обязаны нести это «царское бремя». Но некоторые из них нашли выход: например, в одном тексте из Города Иудеев упоминается человек по имени Шаламъяху бен Нуба, иудей. Он решил, что не хочет совершать трудный переход, грозящий смертью, чтобы строить дворец в Шушане (Сузах). Он нанимает некоего Забуду бен Илтамеш-Хазе (самое арамейское имя, какое только бывает), и этот Забуду отправляется вместо Шаламъяху на двухмесячную службу.
Э. Ш.-Р.: Он совершает аутсорсинг.
П. З.: Да, и он ему хорошо платит, ведь это очень рискованное предприятие. Он даёт ему 5 сиклей чистого серебра, муку, оливковое масло, жеруху обыкновенную, кожаный бурдюк, сандалии, плату за двухмесячный труд, и самое главное — если этот Забуду решит сбежать и не пойдёт с другими иудеями строить дворец, то именно Забуду будет нести ответственность. А ответственность очень серьёзная: тебя признают дезертиром, а это смертный приговор или другое страшное наказание. Мы видим, как состоятельным иудеям удавалось нанимать вместо себя людей, которые несли вместо них службу, но можем представить и других, не столь состоятельных, которым приходилось нести бремя строительных работ. Мы знаем, что именно в те годы, к которым относится документ, много иудеев из Города Иудеев и представителей других чужеземных групп были отправлены в столицу, в город Шушан (Сузы), чтобы строить царский дворец Дария I. Развалины этого гигантского дворца до сих пор находятся в городе Шушан.
Э. Ш.-Р.: Мы можем провести много часов, обсуждая эти документы и то, что из них можно узнать. Как вы сказали, их сотни. Но в нашей комнате есть большой слон: это всё, что касается Храма, и того, что происходит в Иудее и Иерусалиме в этот период. Мы не можем игнорировать тот факт, что эти документы покрывают период в сотню лет (примерно 570–470 гг. до н. э.). Именно в этот период строится Второй храм, иудеи возвращаются в Сион. А эти документы сообщают нам о том, что эти люди остались жить там, они не вернулись. Знаем ли мы хоть что-нибудь из этих документов об отношении изгнанников к Храму, к Иерусалиму? Может быть, они посылают жертвоприношения, совершают паломничества — хоть что-нибудь?
П. З.: Кое-что мы знаем, и это кое-что — отсутствие в документах из Города Иудеев каких-либо сведений о подобных путешествиях в Иерусалим или о какой-то связи с ним. Это само по себе важное свидетельство о положении этих людей. Речь идёт о людях, оказавшихся в сравнительно далёком изгнании. Совершить подобное путешествие очень непросто, и связь с Храмом нарушается. Яркое описание радостного возвращения в книгах Эзры и Нехемьи не оказывает влияния на большую часть иудейской общины — она продолжает существовать в течение последующих поколений на территории бывшей Вавилонии.
Э. Ш.-Р.: Не просто существовать, а процветать.
П. З.: Именно так: в парфянский и сасанидский периоды, когда были составлены Мишна и Талмуд, её численность значительно увеличивается. А про Храм из этих документов мы знаем мало. Из внешних источников, связанных с этим регионом, нам известно, что были другие храмы, которые создавались иудеями в своих общинах.
Я знаю, что следующий ваш выпуск посвящён как раз этому. Могу только в скобках сказать, что связь с иудейским культом у них была. Он в изгнании приобрёл другой оттенок или стал развиваться в другом направлении, но он существовал. Его надо рассматривать в соответствующем контексте с использованием арамейских и аккадских источников.
Э. Ш.-Р.: Вы построили мостик к нашему следующему выпуску, в котором мы поговорим про другие диаспоры того же периода и культовые практики, которые у них формируются.
Я хочу поблагодарить вас, доктор Питер Зильберг. Нам удалось «убить сразу двух зайцев» — поговорить об обнаружении этих документов, о конкретной находке ассириологов и её значении, а также взглянуть на это с более универсальной точки зрения и постараться понять, что происходит с изгнанниками вообще, с какими проблемами, отчасти актуальными и доныне, они сталкиваются. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. До новых встреч!
Все беседы второго сезона:
Черная дыра израильской археологии
Ирод: архитектура и злодейство
Что раскопали на горе Геризим?
Альтернативный еврейский храм в Египте
Почему Курманские свитки остаются сенсацией?
Как проникнуть в мысли людей древности?
Масада и мифология современного Израиля
Восстание Бар-Кохбы — героизм или ошибка?