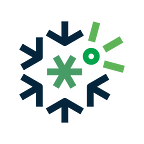Черная дыра израильской археологии
Сериал Земля раскопок (сезон 2, серия 1)
Проект «Идеи без границ» культурного центра Бейт Ави Хай
Ведущая: журналист Эфрат Шапира-Розенберг
Гость: Одед Липшиц — профессор факультета археологии и культур древнего Ближнего Востока Тель-Авивского университета, директор Института археологии Тель-Авивского университета.
Эфрат Шапира-Розенберг (Э. Ш.-Р.): Добро пожаловать на новый сезон «Земли раскопок», передачи об израильской археологии. Прошлый сезон был посвящён, в основном, библейскому периоду. Начиная с Исхода из Египта, объединённого царства, мы дошли до кражи древностей, детективных археологических загадок, много внимания уделили статусу Иерусалима. Мы завершили сезон в канун Девятого ава, выпуском, посвящённым разрушению Храма, Иерусалима и в целом падению Иудеи. Мы хотели понять, может ли археология оценить масштаб разрушений, были ли они столь драматичными, как описано в Библии.
Что происходило в период после разрушения Храма? Многие из нас выросли на библейской истории: манифест Кира, Возвращение в Сион, строительство Второго храма, Эзра и Нехемья, великие реформаторы, восстановившие правильный порядок… Что из всего этого отражено в археологических находках? Что мы знаем о таинственном персидском периоде? И почему именно этот сравнительно тёмный период после разрушения Храма так повлиял на социальное, экономическое и религиозное формирование народа? И насколько история о возвращении в Сион связана с сионистской идеологией?
Наш гость — Одед Липшиц, профессор кафедры археологии и культуры древнего Ближнего Востока университета Тель-Авива, глава Института археологии имени Надлера в Тель-Авивском университете и глава программы изучения Древнего Израиля. Много лет он проводит раскопки в Рамат-Рахель, на холме Тель-Азека, поэтому он лучше всех может ответить на наши вопросы по поводу персидского периода, называемого Возвращением в Сион.
Итак, мы говорим о персидском периоде, о периоде Возвращения в Сион, верно? Но сперва нужно задать один вопрос. Действительно ли персидский период — это период?
Одед Липшиц (О. Л.): Я полагаю, что любой вопрос об определении периода следует рассматривать сверху, скажем так. Юноша говорит любимой девушке, что их знакомство — новый период его жизни. Но действительно ли начался новый период? Разделяют ли эту точку зрения его друзья, семейный врач и родители? Когда речь идёт о группах, о народах, вопрос определения периода неоднозначен. Часто всё зависит от того, кто, почему и с какой целью его определяет. Насколько это применимо к жившим тогда людям?
Я считаю, что все определения библейских периодов стали производной от того, кто определил их и с какой целью — начиная от времён Йехошуа бин Нуна, судей, единого царства, а также разрушения Храма, изгнания и Возвращения в Сион. Всякое хорошо знакомое нам с детства определение (Первый храм, его разрушение, Вавилонское пленение, Второй храм, Возвращение в Сион) кто-то дал по вполне конкретным причинам. Кто его дал и почему? Совершенно очевидно, что определение дали те, кто вернулись в Сион. У вернувшихся в Сион был конкретный интерес — сказать, что было разрушение и изгнание, и страна пустовала, и теперь у нас, изгнанников, есть право вернуться.
Полагаю, это известно всем, кто знает историю сионистского движения. И в Декларации независимости написано то же самое. Мы жили здесь, но были разгромлены и отправились в изгнание. Две тысячи лет страна пустовала. И на основе этого исторического права мы создаём тут государство. Рыночная площадь была пуста, мы вернулись, и из пены и облаков возник Белый город, а раньше там никого не было, до Первой алии тут никого не было. То есть наша Первая алия сионистского движения — это чья Первая алия? Разве до неё не было религиозной алии? В стране не жили евреи до неё? Всё зависит от того, кто даёт определение, и того, кто его принимает. Если же рассмотреть события с точки зрения истории и археологии, то придётся дать совсем другое определение, в частности, для тысячи лет существования Первого и Второго храма. Так я считаю.
Э. Ш.-Р.: Допустим, если бы не было библейского описания?
О. Л.: Я бы сказал так. Примерно 200 лет занимает период формирования, времена Давида и Соломона, а затем на 600 лет вся страна оказывается подчинена власти империй — Ассирия, Египет, Вавилон, Персия, Птолемеи, Селевкиды — до восстания Маккавеев. А для имперской власти почти неважно, есть Иерусалим или нет, есть дом Давида или нет, есть Храм или нет. Они тут правят и хотят собирать налоги, им нужны лояльность и спокойствие. С их точки зрения, такова система, и именно её мы видим в материальной культуре.
Э. Ш.-Р.: Вы хотите сказать, что даже в период двух царств (или единого царства — неважно, как назвать), даже во время Израиля и Иудеи всё было так?
О. Л.: Во времена Израиля и Иудеи не совсем так, потому что уничтоженный Израиль быстро исчез с исторической сцены, когда в мире стали заправлять империи. Так что это касается в основном истории Иудеи. Иудея с 734 до н. э. года, со времён Ахаза, царя Иудеи, подчиняется Ассирии. Вскоре после этого возникает Рамат-Рахель, экономика подчиняется ей, это отражается и в системе управления. И в этот длительный период самое потрясающее, что с разрушением Иерусалима ничего не меняется: экономика сохраняется, чтобы выплачивать подати, Рамат-Рахель функционирует, кувшины запечатываются — потому что империя требует налоги. А для империи неважно, есть Иерусалим или нет, есть дом Давида или нет, есть Храм или нет. Главное — храните лояльность и платите налоги.
Э. Ш.-Р.: И при этом не имеет значения, о какой империи идёт речь — об ассирийцах, вавилонянах или персах?
О. Л.: Верно. Нужно понимать, что вавилоняне сохранили ассирийские порядки полностью, так как это отвечало их интересам. Персы сохранили вавилонские порядки с небольшим отличием. Вавилоняне для закрепления власти, устав от постоянной нелояльности Иудеи, решили разрушить Иерусалим и изгнать дом Давида, местную элиту, положить конец существованию Храма. Персы, по тем же соображениям — получить лояльность и собирать налоги — решают отстроить Храм, разрешить элите вернуться в Иерусалим и отправлять здесь свои обряды. Но интересы те же самые: тут нет большей или меньшей любви, а есть расчёт. Империи и государства на протяжении всей истории руководствуются расчётом, а не любовью.
Э. Ш.-Р.: Я могу понять ваши слова, если говорить о периоде под еврейским названием «Возвращение в Сион». Но вы говорите, что к этому же периоду относится и название «Персидский период», принятое в истории и археологии, и что отдельного периода нет, а есть продолжение истории в течение всех этих веков или тысячелетий, просто продолжение.
О. Л.: Я немного заострю. Без сомнения, библейское описание возникло по конкретным причинам — некоторые группы обращались к определённой аудитории по своим соображениям. Но даже если бы Библии вообще не было, мы всё равно знали бы о жутком разрушении Иерусалима, знали бы, что было какое-то изгнание, и знали бы, что большая часть населения Иудеи ушла из-за этого. Это показывает археология.
Э. Ш.-Р.: Даже без Библии. В прошлом сезоне мы выяснили, что археология любит разрушения.
О. Л.: Археология способна точно определить, что было разрушение. Но ещё когда я писал диссертацию и книгу много лет назад, вот что меня поразило, и в итоге привело к исследованию этого периода: мало того, что страна не опустела (это просто миф), но, что более важно, страна не наполнилась заново. То есть в персидский период сформировался более значительный миф, который я называю мифом о массовом возвращении. Не было массового возвращения. Если бы у нас не было библейского описания, Эзры, Нехемьи и некоторого количества дополнительных данных из Хагая и Зхарьи, то мы бы и не подумали, что было какое-то возвращение, так как, с точки зрения археологии, в Иерусалиме в VI веке до нашей эры после разрушения осталось небольшое население.
Это показали и раскопки Эйлат Мазар: в Иерусалиме остались люди, мы нашли немного керамики и печатей вавилонского периода. И в персидский период ничего не меняется: немного керамики и печатей персидского периода. Сегодня, в ходе новых раскопок, мы нашли строения, по которым мы видим, как вернувшиеся в Сион поселились среди руин, немного расчистили руины там и тут, и построили скромные дома. Среди руин. Может, стоит сказать о малолюдности Иерусалима в персидский период, но изменений нет ни в экономике, ни в управлении: деревни вокруг Иерусалима живут, как жили, демографических изменений нет. Если подумать о цифрах — до разрушения Первого храма в Иудее жили 110 тысяч человек, 10–20 тысяч из них отправились в изгнание. Иерусалимская элита отправилась в изгнание двумя волнами, сперва с изгнанием Йехоакима, затем после разрушения Храма. Из-за разрушения и кризиса, из-за отсутствия царства население продолжало сокращаться. Я бы сказал, что в разгар Вавилонского пленения в Иудее жили около 40 тысяч человек — земледельцы, и их всё равно вполовину больше, чем ушедших. Удивительно, что с началом персидского периода всё идёт по-прежнему. Более того, население продолжает сокращаться, и в итоге в V веке до нашей эры здесь живут 30 тысяч человек. То есть, массового возвращения не просто не было — было сокращение численности населения. И период Возвращения в Сион не изменил соотношения: он существует в Библии, но не на практике.
Э. Ш.-Р.: Давайте сейчас погрузимся в этот период. Иерусалим был разрушен, и разрушение, действительно, было, но страна не опустела полностью, это уже можно утверждать. Но всё же разрушение было, и серьёзное: по вашим словам, не менее половины населения исчезло. Как выглядела жизнь евреев в те годы?
О. Л.: До разрушения Храма было ясно, что центром иудейского мира для жителей Иудеи был Иерусалим и его окрестности. Где центр после разрушения Иерусалима и при переходе к персидскому периоду? Существовал ли он? Как выглядела их жизнь в те времена? Накануне разрушения Храма Иерусалим, бесспорно, был центром. Это был город в Иудее, окружённый деревнями. Вавилоняне нанесли тяжёлый удар. Думаю, они знали, как устроена Иудея. Кстати, то же самое было в Аммоне: они нанесли прямой удар по центру — центру памяти, центру руководства, религиозному центру, центру культа. Вавилоняне в своём походе собирались разрушить Иерусалим, выселить дом Давида и разрушить Храм — убрать три элемента, составлявших суть Иудеи конца периода Первого храма. Им дела не было до тех, кто остался в деревнях и жил там после этого.
После разрушения Иерусалима и пленения дома Давида начался процесс распада. Периферия Иудеи осталась беззащитной перед кочевниками, так как некому было содержать гарнизоны в Негеве и на границах. Эйн-Геди был разрушен, Негев разорён, но я думаю, что это сделали не вавилоняне, а это был результат исчезновения царской власти. Именно поэтому дальняя периферия гибнет. Но интересно, что ближняя иерусалимская периферия, земледельческая, существовавшая вокруг города за 100–200 лет до того, осталась. В области Биньямин, к северу от Иерусалима, в области от Бейт-Лехема и южнее, до Бейт-Цура, к югу от Иерусалима, и к западу от Иерусалима, до прибрежной равнины, население осталось, их жизнь не изменилась. Они продолжали возделывать землю и платить налоги в Рамат-Рахель.
Я уже много лет веду раскопки в Тель-Азека. Это потрясающий объект на границе Иудеи персидского периода, находящийся в месте пересечения границ округов Иудея, Ашдод и Идумея. Там мы ведём раскопки крупной деревни. Холм Тель-Азека контролирует границу Иудеи, долину Аяла с востока, и побережье, округ Ашдод, с запада. Сразу к югу от Азеки начинается округ Идумея времён персидского владычества. И этот замечательный комплекс представляет собой, пожалуй, первое свидетельство того, что после разрушения Иерусалима там остался тот же народ. Что свидетельствует об этом? Мы нашли керамику и печати VI века; мы только начали раскопки, но присутствие жителей Иудеи видно, они остались, там не было разрушения. Эта деревня достигает расцвета к концу персидского периода и сохраняется к началу эллинистического периода как иудейская. Её материальная культура связана с Иерусалимом: та же керамика, всё те же характерные черты. И это один из многих примеров того, что остался тот же народ, и он был главной демографической составляющей в персидский период здесь, вокруг Иерусалима, в округе Иудея. Город был пограничным, поэтому в 100 метрах на юг или на север находки уже другие, и ясно, что там жили не люди Иудеи.
Если отойти чуть-чуть южнее от Азеки, то мы окажемся в Идумее: там другая керамика, другой мир, у которого больше связи с берегом. К западу от неё привязанная к побережью область Ашдод с очень закрытой материальной культурой, характерной для Иудеи в персидский и начало эллинистического периодов. Азека — один из пограничных городов. Даже если бы мы не знали об этом из истории Эзры и Нехемьи, то узнали бы из археологических раскопок.
Самый важный момент — это исчезновение центра. Иудаизм — или религию Иудеи конца периода Первого храма и начала Вавилонского плена — характеризует отсутствие центра. Элита перешла в Вавилон, начался новый мир. Вавилонская элита — голова без тела: если раньше она опиралась на тело, на земледельцев, местное население, то теперь его нет. Более того, и тело осталось без головы, а без неё долго не проживёшь.
Кому что больше мешало — телу отсутствие головы или голове отсутствие тела? Полагаю, каждый из них испытывал беспокойство и справлялся по-своему. Очень интересно, что делала элита в Вавилоне. Как она сохраняла память, обряды, общину. В Вавилоне был царь Йехоаким, первосвященники Нехемья и Йехезкель тоже находились там.
Э. Ш.-Р.: И они жили в одном месте, одной общиной, а не рассеялись. Я перескакиваю в более поздний период, описанный в книге Эстер, в конец персидского периода, хотя, возможно, это уже начало эллинистического периода, где речь идёт о 127 провинциях Персидского царства и о рассеянии евреев по всей империи. Но здесь другой случай, как вы сказали: они сосредоточены в одном месте, у них своё местечко в Вавилоне, все там.
О. Л.: Большое счастье для нас, для еврейского народа, что, в отличие от ассирийцев, которые рассеивали покорённые народы, как бросают семена через плечо, стирали их с лица земли, вавилоняне придерживались другой практики. Они брали местные элиты, не только еврейские, и переселяли в вавилонские города, незадолго до того разрушенные в ходе войн Вавилона с Ассирией, в надежде, что переселённая элита восстановит эти регионы. Мы знаем, что недалеко от Ниппура был город под названием аль-Яхуду, то есть «еврейский город», а неподалёку был город Галуту-Цуру, что значит «переселённые из Тира». Были и другие аналогичные центры, где жили переселенцы из одного места. Вавилоняне переселяли элиту, переселяли мастеров, которые смогут восстановить район. Поэтому, кстати, читая о том, откуда приходили евреи через 50 лет, во время Возвращения в Сион, мы увидим такие районы, как Тель-Авив, Тель-Харса, и Тель-Мелах. Что это такое? Тель-Мелах — это «разрушенный город, засыпанный солью», Тель-Харса — «разрушенный город, усеянный черепками», а Тель-Авив (в аккадском звучании — Тель-Абубу) — «город, уничтоженный наводнением». То есть евреев поселили в разрушенных городах, чтобы они их восстановили, но селили их компактно, поэтому евреи продолжали жить под одним и тем же руководством.
В Иудее, напротив, центра больше не было. Всё местное население нуждается в связи с Богом — оно должно приносить жертвы и где-то молиться. Поэтому, как только исчезла элита, навязавшая всем Иерусалим, местное население смогло обратиться в прошлое, к доиерусалимским центрам, таким как Бейт-Эль, Гаваон, Хеврон и др. Эти места становились новыми центрами и восстанавливали свою славу в качестве альтернатив иерусалимскому Храму.
Поэтому, когда старая элита вернётся через 50 лет и восстановит жертвенник в Иерусалиме, она не сможет сразу восстановить Храм, потому что местные их не поддерживают: Что вам надо? Мы без вас справлялись и хотим жить без вас.
Представители элиты вернулись в Сион в 539–538 годах до нашей эры с храмовой утварью, построили жертвенник, каким он был, и впервые после разрушения Храма отметили праздник Суккот, но в течение 25 лет они не могли построить Храм.
Э. Ш.-Р.: Потому что их не поддерживали и им не помогали, потому что местные жители поняли, что могут обойтись без Храма! В последнем выпуске прошлого сезона мы говорили, что, возможно, и до разрушения Иерусалима Храм играл не такую уж важную роль в жизни деревенского населения, и разрушение Храма не было событием, кардинально изменившим их жизнь.
О. Л.: Библейская история — в основном иерусалимская. Она представляет иерусалимский Храм как самый важный объект. Вопрос, что об этом думали другие. Историческая память и воспоминания зависят от того, кто пишет их. Самая важная фигура истории — это историк, он придаёт истории форму. И вопрос в том, помнят ли другие эту историю, понимают ли они историю так же. Те, кто жил в Хевроне, Азеке, Бейт-Эле или Гаваоне — придавали ли они Иерусалиму то же значение, что и иерусалимские священники, у которых была не только вера, но и заинтересованность, чтобы Иерусалим был главным центром? Когда Иерусалим разрушили, жители Гаваона, Бейт-Эля, Рамат-Рахель, Азеки больше не были им ничего должны. С этого моменты формируются альтернативные элиты. Такой процесс мы наблюдаем после любого разрушения и краха, в любом обществе, так как невозможно жить без элиты. И удивительно, что Иерусалим после Возвращения в Сион не сразу смог вернуть себе статус главного центра. На это могло уйти больше времени, чем рассказали Эзра и Нехемья.
Э. Ш.-Р.: Давайте погрузимся в Возвращение в Сион, в этот большой, можно сказать, сионистский миф о манифесте Кира, который напоминает декларацию Бальфура. Его составление описано в книге Эзры. Есть ли у нас доказательства, археологические находки, исторические свидетельства, что манифест Кира существовал?
О. Л.: Мы знаем, что царь Кир проводил политику, призванную помочь персам закрепиться в Вавилонской империи, которую они унаследовали. Для этого им надо было заручиться лояльностью местных элит. Для них была особенно важна вавилонская элита, поэтому в Вавилон разрешено было вернуть статуи вавилонских богов, увезённые в ходе войны Вавилона с Персией. Нам известны и другие манифесты Кира. То есть, чтобы заручиться лояльностью элит, которых персы обнаружили переселёнными в Вавилон, они разрешили некоторой части религиозной элиты вернуться в свои храмы, вернуть свои реликвии и возобновить отправление культа в старой столице. Нигде, даже в манифесте Кира, не говорится о массовом возвращении. Они не разрешили отстроить город Иерусалим.
Э. Ш.-Р.: Этого и не произошло.
О. Л.: Они разрешили вернуть священные реликвии, восстановить Храм, возобновить религиозный центр.
Э. Ш.-Р.: Кир не был сионистом, праведником мира, не был рабом Господа. Это было в интересах империи, и он разрешил это не только нам, но и другим меньшинствам, точнее, другим переселённым элитам. И пусть мы не нашли наш манифест Кира, но нет сомнений, что это имело место.
О. Л.: Да, я полагаю, что это наложилось на манифест из книги Эзры. В книге Диврей ха-ямим (Паралипоменон) описывается то же самое. Вряд ли царь Кир верил в Бога Израиля, скорее, это был циничный расчёт, отвечавший интересам персов. Но для иудейского мира того времени, конечно, это была революция, которая позволила вернуть Храм на место. Итак, разрешение получено. Вопрос, получилось ли у них.
Э. Ш.-Р.: Да, давайте поговорим о несоответствии между манифестом и тем, что, как нам известно, было в реальности.
О. Л.: Без книги Эзры, где с первой по шестую главу подробно описываются первые месяцы возвращения в Сион. Там тоже описывается, что они смогли сделать, два этапа. Первый этап, видимо, это возвращение малого числа людей с некоторой храмовой утварью, строительство жертвенного алтаря и возобновление культа в Иерусалиме. И не более того.
Э. Ш.-Р.: Давайте разберёмся: у нас есть разрушенная Храмовая гора, на ней строят жертвенник, приносят жертвы и отмечают праздник Суккот.
О. Л.: Жертвенник подвижный, переносной. Закрытого, защищённого Храма больше нет. Просто возобновили какие-то ритуалы — вот и всё.
Э. Ш.-Р.: Это напоминает «Верных Храмовой горы» и Гершона Соломона, которые каждый год в канун Песаха стоят у Мусорных ворот с бараном, желая принести пасхальную жертву.
О. Л.: Только у этих нет разрешения. У тех было разрешение приносить жертвы.
Э. Ш.-Р.: Но они сделали только это. Они не отстроили Храм сразу.
О. Л.: На это потребовалось 25 лет. Только во времена Дария они смогли, наконец, собрать ресурсы и построить маленький Храм.
Э. Ш.-Р.: Потому что не было денег от евреев из Америки.
О. Л.: На самом деле, проблема не в деньгах — пожертвования можно собрать. Думаю, большинство элиты осталось в «Нью-Йорке» — в сытом Вавилоне, в персидском мире. Они не приехали. Есть даже упоминание в книге Ирмеяху, где цитируется письмо Ирмеяху к изгнанникам после пленения Йехоакима, в котором он пишет, что пленение будет долгим, стройте себе дома, селитесь там, сажайте деревья и ешьте плоды их. Во время Возвращения в Сион кто-то на призыв вернуться, цитируя пророчество, вспоминает Ирмеяху — зачем возвращаться? И если посмотреть по археологическим и историческим данным, кто вернулся и когда, то мы видим три маленьких волны. В Сион возвращались в основном те, кто может зарабатывать в Иерусалиме — коэны, левиты, храмовые служащие, то есть немногие. Вернулись в Иерусалим, быть может, несколько сотен — те, кому так плохо там, что уж лучше здесь. Три заметных волны возвращения. Примерно во времена Кира, когда переход от Вавилона к Персии пугает, страшит, вселяет неуверенность в тех, кто там жил. Потом, в начале правления Дария, когда жизнь в Вавилоне перестала быть стабильной, это могло стать фактором, заставившим часть элиты вернуться. И во времена Эзры и Нехемьи, в 458–445 гг. до н. э., то есть через 70 лет, когда снова сложилась нестабильная обстановка, снова есть возвращение, малые группы вернувшихся. Археология не обнаружила демографических изменений.
Мы не до конца знаем, как изменился Иерусалим. Конечно, нельзя вести раскопки на Храмовой горе в поисках Храма. Но даже если и был новый храм, то он был совсем маленьким, на месте Первого храма. Это совсем не Храм Ирода, построенный намного позже. Такой Храм существовал много лет, как минимум, до периода Хасмонеев, в маленьком, малонаселённом городке. Материальная культура показывает, что он был бедным в течение всего этого периода. Не только в начале Возвращения в Сион, а в течение всего персидского периода, птолемейского периода и в начале селевкидского периода. До воцарения Хасмонеев. Только с воцарением Хасмонеев статус Иерусалима меняется, и впервые после разрушения Храма он становится городом, не раньше.
Э. Ш.-Р.: Всё это время не было блестящим, славным периодом ни для Храма, ни для Иерусалима. Я снова перечитала книги Эзры и Нехемьи: Нехемья прибыл сюда через несколько лет после Эзры. Иерусалим был в жутком состоянии, стены разрушены, и он прибыл восстанавливать Иерусалим.
О. Л.: Полагаю, если посмотреть на эту реальность, то один из характерных признаков Иерусалима и еврейства персидского периода — гигантский контраст между жалкой, печальной реальностью и ожиданием перемен. Вернувшиеся уверены, что с возобновлением ритуалов вернётся былая слава, вернутся старые времена.
Э. Ш.-Р.: Былая слава, скажем правду, тоже не слишком…
О. Л.: Но кто помнит? Они знают только книги. Они строят жертвенник, возобновляют службу и — ничего! Тогда они говорят: нет. Хагай и Зхарья хотят призвать народ построить Храм. Они собирают средства и строят Храм — и опять ничего! Реальность не меняется. Приходят Эзра и Нехемья и говорят: давайте перенесём святыню из Святая Святых в город, строят стены вокруг Иерусалима и впервые называют его святым городом. Они заселяют Иерусалим, увеличивают его население — и опять ничего. Это огромное противоречие между большими ожиданиями и жалкой, грустной реальностью стало топливом мессианства, воодушевления, ожиданий, написания священных книг, всех этих событий в среде небольшой группы коэнов Иерусалима. Их было 200–300 человек, может, 400 вместе с семьями, не больше. Они пишут, редактируют, формулируют, пробуждают в народе ожидания. Но в жизни ничего не происходит.
Э. Ш.-Р.: Сейчас важно обсудить, кем они были? Кто эти вернувшиеся, как можно их охарактеризовать по сравнению с местным, остававшимся населением? Если следовать Писанию, то вернувшиеся — словно святое семя; их цель — возвратить всё на путь истинный. Кто они по сравнению с простым народом, который остался здесь, отправлял ритуалы в других местах, жил своей жизнью. Имело место столкновение двух сил?
О. Л.: Да. Иудаизм элиты, жившей в Вавилоне, изменился. В вавилонском плену была заложена основа будущего иудаизма Второго храма: монотеизм стал жёстче, законы стали жёстче. Иудаизм эпохи Второго храма — это плод, привезённый с собой немногочисленными представителями элиты, вернувшимися в Иудею. Они приехали с фамильными древами, назвали себя священным семенем (то есть, только сын еврейки, способный доказать в записях еврейское происхождение, считается евреев).
Э. Ш.-Р.: Они изгнали иноплеменных жён с детьми из общества — значит, такая практика существовала? Она не считалась предосудительной?
О. Л.: По сравнению с вернувшийся элитой, здесь жили простые люди, соблюдавшие традиции Первого храма, и они считали, что это иудаизм Первого храма. Возник конфликт между двумя группами, спорившими о том, кто сохранил правильную версию иудаизма Первого храма — их воспоминания не совпали, оказались разными. Следует учесть, что были и самаритяне, которые тоже пришли и заявили: а как же мы? И группы, жившие в Египте, тоже заявили о своих правах. Вдруг стала очень заметна слабость лидеров и Иерусалима, отсутствие центра принятия решений. Но опять же, это вопрос о том, кто пишет и что он помнит. Та фанатичная элита, поселившаяся в Иерусалиме, окружившая себя стеной, угрожавшая изгонять всех, кто не примет её точку зрения, — это фанатики того периода, противостоявшие евреям, соблюдавшим традиции Первого храма, жившим вокруг. Но всё быстро изменилось: как только Иерусалим подвергся греческому влиянию, та же самая иерусалимская элита стала перенимать эллинистическую культуру. А те, кто вчера был простым народом, с которым элита не считалась, станут Маккавеями, которые захватят Иерусалим. Смотрите, насколько всё зависит от точки зрения: когда Маккавеи начнут описывать историю страны по-своему, то они будут ревнителями веры и хранителями традиции иудаизма, а голосов эллинизированной элиты мы не слышим. Историк — тот, кто формулирует и закрепляет память о прошлом, — самая важная фигура.
Э. Ш.-Р.: Мы посвятим специальный выпуск эллинистическому периоду, Хасмонеям и всему тому, что вы сейчас кратко затронули. Вернёмся сейчас к персидскому периоду — к Иерусалиму и тому, что было за его пределами. Как я поняла из ваших слов, Иерусалим был центром не слишком важным — несколько сотен коэнов в лучшем случае. И Персидская империя в рамках своей политики не видела угрозы в этом маленьким религиозном центре. Вместе с тем, здесь был также некий политический персидский центр, верно?
О. Л.: Да, персы неуклонно следовали курсом, проложенным Ассирией и Вавилоном, и старались не смешивать наместников и экономику с этим религиозным центром.
Э. Ш.-Р.: Отделили религию от государства.
О. Л.: Совершенно верно. Ассирийцы сообразили, что не стоит в маленьком, фанатичном Иерусалиме создавать «символы унижения» — свозить туда подати, чтобы представители империи приезжали за ними. Они устроили так, что подати свозили в Рамат-Рахель — там находился имперский административный центр, и иерусалимцы могли его не замечать. В иерусалимских текстах — ни в книге Млахим, ни в книгах Эзры и Нехемьи — не найти упоминаний Рамат-Рахель. В них также не упоминаются и другие ритуально-религиозные центры, кроме самого Иерусалима, хотя они были. И это разделение позволяет отправлять ритуалы практически независимо от жизни под имперской властью. В книге Млахим о временах от Ахаза до Цидкияху и разрушения Храма нет ничего об ассирийцах, кроме обязательного упоминания Синаххериба. Нет упоминаний о них и во времена Менаше и Иошияху, Эзры и Нехемьи: персы просто разрешили нам вернуться, но мы не платим им подати, не подчиняемся им, они ничего нам не предписывают. Существует некая фигура умолчания, которая позволяет тем, кто живёт в Иерусалиме, игнорировать близость имперской власти. По сравнению с убогостью, выявляемой любыми археологическими исследованиями Иерусалима времён Второго храма при персах, Птолемеях и Селевкидах, Рамат-Рахель — это роскошный дворец, выделяющийся на фоне пейзажа, меняющий вид Иерусалима и заметный отовсюду. Вокруг цитадели Рамат-Рахель разбит сад, это зелёный остров на фоне пустыни, в котором растут экзотические растения, сюда впервые попадает этрог. И мы знаем, что сюда же стекаются подати, потому что здесь найдено множество запечатанных кувшинов, намного больше, чем в других местах. В Иерусалиме их тоже находят, но в намного меньшем количестве. Сюда сотни лет доставляли вино и масло, производившиеся в Иудее.
Э. Ш.-Р.: Вы говорите про налоги и подати, и мы сразу думаем про платёжную ведомость. Но нет, они представляли собой товары.
О. Л.: Да, но персов, как и вавилонян с ассирийцами, не интересовало оливковое масло и вино — они меняли их на металлы и отправляли в империю. Так продолжается на протяжении всего периода. По сравнению с невероятным расцветом Рамат-Рахель с его садами, жизнь в остальной Иудее была тяжёлой.
Э. Ш.-Р.: Что мы видим на фотографиях с раскопок в Рамат-Рахель?
О. Л.: Мы видим стены, которые персы пристроили к цитадели ассиро-вавилонского времени, увеличив цитадель за счёт части сада и включив в неё один из самых больших водоёмов, которые были в саду. Получился крытый бассейн, если угодно. Эти стены были построены иначе, чем делалось в этом регионе, как с архитектурной точки зрения, так и с точки зрения технологии. Такая роскошь резко контрастирует со всем, что было тогда в Иудее. Климатические исследования, проведённые в персидский период, показали, что большая часть персидского периода сопровождалась длительными засухами. И мы видим кое-какие свидетельства этого у Хагая и Зхарьи, Эзры и Нехемьи — было тяжело выживать, сложно добывать пропитание. И тут же стоит роскошная цитадель, а рядом зелёные сады, в которых разводят и поливают этроги. Это демонстрирует имперское присутствие, говорит о необычном статусе этого места, представляющего империю. Остальному населению приходится тяжело. Иерусалим тоже не имеет средств, кроме добрых дядюшек в «Нью-Йорке», то есть, вавилонян, которые, думаю, присылали деньги для поддержания иерусалимского Храма. В этом, кстати, могла участвовать и империя. Сам же Иерусалим остаётся в жалком состоянии: плохонькие дома, примитивная керамика. И удивительно, что материальное положение коэнов, которые редактировали и составляли библейские тексты, было очень тяжёлым. Этот острый контраст должен научить нас тому, что на самом деле важно для людей.
Э. Ш.-Р.: Именно об этом я хотела вас спросить. Вы ранее упомянули о том, что умные персы, ассирийцы и вавилоняне понимали, что следует разделить центры власти, и их интересовало лишь взимание подати. Но в долгосрочной перспективе их нет, а духовное учение, созданное первосвященниками-коэнами, которые жили в нищете в бедном городе и вкладывали ресурсы в его создание, сохранилось.
О. Л.: Говоря о разрушении Иерусалима, надо сказать следующее. Возможно, самое важное, что сделали вавилонские изгнанники, это то, что они перенесли акцент с отправления обрядов и ритуалов (хотя Храм потом восстановили), с жертвоприношений — на тексты. Свитки не просто сохраняют память, они сохраняют самосознание. И мы видим этот процесс: ни один другой народ, изгнанный в те годы, не уцелел. Конечно, были облегчающие обстоятельства. Думаю, мало кто знает, что евреев и иудаизм спасло не что иное, как пленение Йехоакима за десять лет до разрушения Храма.
Э. Ш.-Р.: Это подготовило к жизни в пленении?
О. Л.: Десять тысяч человек с царём и иерусалимской элитой уже находились в Вавилоне, когда стали прибывать переселяемые представители народной элиты после разрушения Храма. Их приняли, им показали, что можно жить в изгнании. Это и было спасением для иудаизма и евреев того времени. Они продолжили жить в одном месте, сохранили общину вокруг текстов, перенесли память и самосознание на тексты. После Возвращения в Сион, когда Храм построили, элита осталась в Вавилоне, но вернувшиеся были её представителями. Эта уникальность в развитии еврейского духовного мира в то время привела нас к тому, что сегодня мы живём в своём Третьем храме, третьем возвращении в Сион.
Э. Ш.-Р.: Давайте в этот момент попробуем приблизиться к самому Храму. Возвращение в Сион означает, в том числе, возвращение и строительство Храма, хотя последнее, мягко говоря, не было таким громким событием, как о нём писали. Вы уже сказали, что вернувшиеся в первые годы из Вавилона репатрианты построили Храм не сразу. Сперва построили жертвенник, и потребовалось 25 лет.
О. Л.: Второй храм построили в 516–515 годах.
Э. Ш.-Р.: Ясно. Но можно сказать, что в терминах того времени 25 лет — не так уж много для такого проекта.
О. Л.: Всё равно, целое поколение.
Э. Ш.-Р.: Что было в этом построенном Храме? Как он выглядел? Какого размера он был?
О. Л.: Во-первых, мы не знаем. Раскопки там вести нельзя.
Э. Ш.-Р.: Мы говорили об этом раньше, это проблема.
О. Л.: Я предполагаю, что Храм был строением, в котором отправлялись ритуалы. Но его значимость не столько в том, что в нём было, сколько в его религиозном значении для тех, кто приносил в нём жертвы. В последние годы мы ведём раскопки в храме в семи километрах от Иерусалима. Его нашло Управление древностей много лет назад. Шуа Киселович ведёт раскопки в этом храме вместе со мной уже несколько лет.
Э. Ш.-Р.: Где, расскажите. Держу пари, большинство не знает, о чём речь.
О. Л.: Мы ведём раскопки под мостом, пересекающим поворот Моца. Там обнаружили храм, построенный примерно во времена царя Соломона, согласно Библии. Согласно археологии, в то время, когда Соломон построил Храм в Иерусалиме, в семи километрах оттуда был построен ещё один какой-то храм.
Э. Ш.-Р.: Но, в отличие от Храма Соломона, о котором есть библейский рассказ, но археология не знает, был ли он построен, храм в Моца известен археологам.
О. Л.: И описание иерусалимского Храма совпадает с тем, что мы нашли в Моца: тот же размер, та же ориентация с востока на запад, такой же зал с двумя колоннами у входа. В Иерусалиме у колонн были имена — Яхин и Боаз; как в Моца — не знаю. Впереди имелся жертвенник, найдены кости жертвенных животных, статуэтки. Этот храм существовал весь период Первого храма в семи километрах от Иерусалима. В Библии о нём не написано, потому что иерусалимская элита утверждала, что ритуальные центры вне Иерусалима, если они и были, то незаконные, ненастоящие.
Э. Ш.-Р.: Может, про храм в Моца написали Библию, но она утеряна?
О. Л.: Её нет, потому что сохранилась иерусалимская история. Думаю, Второй храм был таким же: скромный, на вершине горы. Его строили не как величественное главное здание. Представление о роскошном Храме в Иерусалиме относится только к Храму Ирода, который является, по сути, Третьим храмом. Ирод снёс Храм вернувшихся в Сион, существовавший и при Хасмонеях, и построил великую платформу на опорных стенах, создавших просторную площадь, и Храм, возвышавшийся над ней. Сегодня мы знаем, что этот Храм достроили через много лет после Ирода, он действовал во всём величии только 30–40 лет. Насколько представление о таком иерусалимском храме можно считать реальным, насколько великим был Храм в реальности и как долго просуществовал? Поэтому я говорю, что жертвенник и Храм отражают не столько историческую и археологическую, сколько историографическую реальность. Построенный и действующий Храм вернувшихся в Сион был небольшим храмом, окружённым деревней, где жили несколько сотен коэнов, служивших в святыне. Само это здание и сам Иерусалим не были причиной огромного значения Иерусалима для национальной и религиозной памяти и ритуала.
Э. Ш.-Р.: Вы говорите, что Иерусалим стал значимым из-за самосознания вернувшихся в Сион. Дело не в количестве, а в качестве.
О. Л.: Дело в качестве, в формировании памяти, в их способности навязать всем своё понимание истории, нашей памяти и значения Иерусалима, который для них всегда был избранным городом, единственным настоящим местом для богослужения. Как только это представление укрепилось в умах и сердцах, была сформирована память о Иерусалиме и Возвращении в Сион.
Э. Ш.-Р.: Они, действительно, жили в тяжёлых условиях, в условиях засухи, в разрушенном городе — небольшое количество коэнов, небольшое население Иерусалима, даже после прибытия Эзры и Нехемьи, когда возвели стены и немного отстроили город. Сколь же велика была духовная сила в период, который вы определили как жалкий и убогий.
О. Л.: Для меня это урок скромности. Более сильные и великие народы, чем мы, не оставили духовного наследия, подобного вернувшимся в Сион. Представление о том, что есть прямая связь между богатством, роскошью и духовным творчеством, ошибочно. Я испытываю большое уважение к величию еврейского духовного творчества в Иерусалиме после Возвращения в Сион, как и ко всему, что создано за 2000 лет изгнания. На всём этом фоне — изучение текстов, изучение памяти, придание основного смысла Иерусалиму! Подумайте ещё раз о представлениях людей, живущих согласно текстам: они живут на руинах Иерусалима сотни лет, у них есть тексты, рассказывающие о прошлом, и они живут памятью, не соответствующей тому, что они видят вокруг. И есть напряжение, надежды, желание возобновления и ожидание, что Бог исполнит их желание и восстановит правильный порядок.
Э. Ш.-Р.: Возможно, это и было тогда главным. Жизнь в промежуточные времена, между очень живой памятью и мессианским ожиданием возрождения породила эту страсть.
О. Л.: Именно так. И в этом главное значение этого долгого периода. Это очень продуктивные времена, формирующие народ в очень тяжёлых условиях. Если углубиться в этот еврейский мир, то видно, что ему не нужны жертвоприношения и материальная роскошь, потому что он занимается текстами и воспоминаниями, самосознанием и религией, он отстранён от мировых бед, отстранён от власть предержащих, он может существовать в изгнании. Быть может, даже лучше, если этот мир живёт в изгнании, а не под властью Хасмонеев или даже воссозданного государства. Он может обойтись без них; возможно, так и лучше. Поэтому величие иудаизма, сохранившееся позднее в течение сотен лет, — вот что такое мир иудаизма времён Вавилона и Персии, как показывает археология.
Я считаю, что в это время происходит формирование еврейского мира. Способность жить в текстах, жить с памятью, без нужды в существующем центре, без нужды в богатой материальной культуре, без нужды в огромном Храме… Кому это нужно?
Э. Ш.-Р.: Возможно, наоборот; когда всё это существовало, тогда и пришёл конец.
О. Л.: Думаю, так. Это меняет всё направление в сторону, о которой и не думали создатели иудаизма времён Вавилона и Возвращения в Сион.
Э. Ш.-Р.: Хорошо. Я благодарю вас, профессор Одед Липшиц, за интересную беседу, которая стала для меня откровением и разрушила многие мифы. С одной стороны, полезно изживать их, с другой — можно многому научиться. После разрушения мифа не остаётся пустоты. Всё, что вы сказали, не разрушает, а созидает и заставляет относиться с восхищением к скромному поколению, оставившему такой значительный след. Большое спасибо вам.
Все беседы второго сезона:
Черная дыра израильской археологии
Ирод: архитектура и злодейство
Что раскопали на горе Геризим?
Альтернативный еврейский храм в Египте
Почему Курманские свитки остаются сенсацией?
Как проникнуть в мысли людей древности?
Масада и мифология современного Израиля
Восстание Бар-Кохбы — героизм или ошибка?