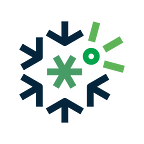Почему восстали Хасмонеи?
Сериал Земля раскопок (сезон 2, серия 2)
Проект «Идеи без границ» культурного центра Бейт Ави Хай
Ведущая: журналист Эфрат Шапира-Розенберг
Гость: Орен Таль — профессор факультета археологии и культур древнего Ближнего Востока Тель-Авивского университета, руководитель проекта раскопок Аполония-Арсуф.
Эфрат Шапира-Розенберг (Э. Ш.-Р.): Добро пожаловать в новый выпуск серии «Земля раскопок: беседы об израильской археологии». В первом сезоне мы занимались в основном периодом Танаха и Первого храма, тогда как во втором сезоне мы останавливаемся на периоде Второго храма в различных его аспектах. В предыдущем выпуске мы рассматривали персидский период еврейской истории и его квинтэссенцию — «Возвращение в Сион». Было оно или его не было?
Исторические процессы неизбежны: империи рушатся медленно, но неотвратимо. На закате Персидской империи приоткрывается занавес: на сцену выходит эллинистический период. Греческая культура много дала миру — язык, философию, литературу, искусство. Её значение для человечества сложно переоценить. Повлияла ли она на наш регион столь же драматическим образом? Как реагировало местное население на эллинистическую культуру? Какая драматическая трансформация произошла после основания первого за долгие сотни лет суверенного самостоятельного государства — Хасмонейского царства?
У нас в гостях сегодня Орен Таль, профессор археологического факультета Тель-Авивского университета. Он занимается археологией Ближнего Востока и ведёт раскопки в Аполлонии и Бейт-Шеане. Поэтому нет более подходящего гостя, чтобы поговорить с ним об эллинистическом периоде и о Хасмонеях. Здравствуйте, профессор Таль. Мы смотрим на то, что произошло здесь и находится здесь, в нашем регионе. Как я уже сказала, в первом сезоне мы говорили о танахическом периоде, периоде Первого храма. Сначала всё ясно: были два царства — Израильское и Иудейское. Но произошла некая драма, разрушение, и все карты перемешались.
Орен Таль (О. Т.): Верно.
Э. Ш.-Р.: Здесь сменялись империи. Ранее мы говорили о вавилонянах. Их сменили персы. И если мы хотим взглянуть поближе на наш регион в конце персидского и на заре эллинистического периодов, что мы видим здесь? Кто тут живёт?
О. Т.: Нужно взглянуть на этот период диахронически. Этот период часто называют «эрой империй». Как вы сказали, в нашем регионе сменяют друг друга разные империи. Вавилоняне расширяют иудейские центры, менее чем через 80 лет после них на арене новый игрок — ахемениды, персы, затем — эллины, греки. Все эти смены власти приводят и к демографическим изменениям, в нашем регионе появляются новые игроки. В ходе этого процесса персы осуществляют «Возвращение в Сион», возвращают евреев на еврейскую родину. Однако появляются и другие действующие лица, другие народы.
Э. Ш.-Р.: Мы говорили об этом в прошлом выпуске, но с этого хорошо бы начать нашу беседу сегодня: нельзя сказать, что здесь было массовое заселение, огромное количество людей, верно? Ситуация не вернулась к прежнему состоянию.
О. Т.: Конечно. Когда речь идёт о таких группах (назовём их монотеистическими), как потомки Израильского царства — самаритяне, евреи — это не большое число людей. Это очень небольшие группы, которые расселяются в гористых районах, в маленьких поселениях, главным образом в деревнях. Но есть и другие действующие лица — финикийцы, а также группа, которую мы называем идумеями. Финикийцы в знак благодарности за помощь персидского царя в завоевании Египта с 525 по 517 гг. до н. э. предоставляют Персии «морские услуги» — флоты финикийских городов.
Э. Ш.-Р.: Для тех, кто не ориентируется в теме — что такое «финикийские города»? Где они находятся?
О. Т.: Там, где сегодня находится прибрежная полоса Ливана и Сирии, существовали следующие города: Тир, самый близкий к Земле Израиля, Сидон, Библ, Триполи и Арвад. Связь с Землёй Израиля всегда была у двух южных городов, которые сегодня находятся в Ливане — Тир и Сидон. У них был флот, который мог использоваться для перевозки товаров и людей во время персидского завоевания Египта. В качестве признания головокружительного успеха в завоевании севера африканского континента они получают земли. Частично это задокументировано в погребальной надписи Эшмуназора II, царя Сидона. Эта надпись датируется приблизительно концом VI века до н. э., и в ней говорится о земле, данной ему царём царей.
Э. Ш.-Р.: В данном контексте царь царей — это персидский царь.
О. Т.: Да. Персидский царь в этой надписи именуется не просто царём, а царём царей. Эта территория между Дором и Яффо, которую мы сегодня называем Шарон, переходит к сидонцам, и есть много археологических находок, относящихся к сидонцам и принадлежащим к слоям персидского и даже эллинистического периодов. Тиру же была отдана вся область Акко и, видимо, вся область Плешет (Филистии). В результате возникает непрерывное территориальное образование финикийцев.
Э. Ш.-Р.: Вдоль берега.
О. Т.: Вдоль берега Земли Израиля. Оно обеспечивает царю царей «буферную зону», то есть создаёт такую географическую картину, при которой в уязвимых местах огромной империи, на западной её границе, живут верные подданные. Есть и Египет, который всегда хотел вернуть себе независимость — и тут рядом с ним всегда будет тот, кто поможет в ходе восстаний со стороны египтян, пытающихся вернуться к независимости. На каком-то этапе у них получается. Не всегда такое присутствие помогало, на определённом этапе даже повредило.
Э. Ш.-Р.: Что именно можно узнать о финикийцах из археологических находок? Как мы можем понять, что это они?
О. Т.: Те группы, о которых мы говорим, это финикийцы, идумеи, евреи, самаритяне. К счастью, в персидский период начинает использоваться новое платёжное средство — монеты. Малые народы или группы населения попали под влияние всемирной «моды» и, по крайней мере, во второй половине персидского периода получили разрешение от персидских царей чеканить монеты. Эти монеты можно назвать провинциальными монетами.
Э. Ш.-Р.: Это местная монета.
О. Т.: Да. И если иудейская монета находится в регионе расселения самаритян, это не значит, что она будет использоваться. Мы говорим о серебряных монетах. Стоимость серебра всегда имеет значение. Пользоваться монетами можно, опираясь на стоимость серебра. Но эти монеты имеют не только экономический, но и культурный, общественный вес. Чеканка на этих монетах является иногда единственным свидетельством «иконографии», преобладавшей в персидский период. Помимо монет, есть также керамика, характерная для горных, прибрежных районов и других регионов. У нас есть статуэтки, которые были очень распространены среди финикийцев и идумеев. Они практически полностью исчезли у евреев и самаритян из-за второй заповеди Декалога. Одним словом, мы имеем характерные культурные признаки или материалы, которые можем опознать. Но не стоит забывать, что мы говорим о географических областях, и более или менее знаем, кто где жил: если мы ведём раскопки на объекте персидского периода в горных районах Иудеи, мы ожидаем увидеть находки, оставшиеся от жителей-евреев.
Э. Ш.-Р.: И находки подтверждают эти предположения.
О. Т.: Именно так. И не стоит забывать ещё одну вещь — значение письменности. В нашем регионе распространена западносемитская письменность, но финикийская немного отличается от арамейской, которая был принята среди самаритян и идумеев, и палеоеврейского письма, используемого, конечно, евреями.
Э. Ш.-Р.: Мы поговорили о финикийцах, одной из сравнительно новых групп региона. А также упомянули идумеев. Кто они такие?
О. Т.: Кто такие идумеи — об этом ведётся сложный спор. Откуда они появились? Можно ли сказать, что они идумеи? Действительно ли они потомки известных нам по Танаху идумеев? Даже если мы предположим, что это так, то нельзя исключить, что значительная их часть представлена каким-либо арабским племенем с Аравийского полуострова. В любом случае мы понимаем, что образовался некий поселенческий вакуум, и люди, жившие поблизости, сочли себя вправе заполнить его. Если есть возможность расширить свой экономический потенциал, установив контроль над землями с санкции властей, то это неизбежно происходит.
Э. Ш.-Р.: Это была нехватка жилья, созданная танахическим законом!
О. Т.: Да, дефицит жилья. Идумеи имели очень большое значение для персидской власти, поскольку именно они заселили регион, разделяющий обжитые земли и пустыню, за которой уже Египет, который всё-таки воспринимается в сознании как империя. Несмотря на то, что в персидский период или, по крайней мере, в первой его половине Египет не играет важной роли, ахемениды всегда опасались египтян. И ясно, что идумеи, а с ними евреи, самаритяне и финикийцы выполняют очень важную функцию — предотвращение восстаний или волнений против персидской власти.
Э. Ш.-Р.: По сути, им давали земли, чтобы воспользоваться ими.
О. Т.: Конечно, и это обеспечивало некоторую лояльность. Ясно, что эти земли были даны в обмен на логистические услуги, о которых нам неизвестно из письменных источников. Логично предположить, что здесь применялся принцип «рука руку моет», поэтому мы видим ту археологическую картину, которую видим. Административно этот район представляет собой часть провинции Авар-Наара; всё, что южнее Евфрата, относится к этой административной единице. В этой крупнейшей на тот момент мировой империи, расположенной на трёх континентах — в Азии, Северной Африке и Европе — было много таких единиц, особенно в первой половине периода персидской власти. Эта провинция — одна из шестнадцати, и южные регионы внутри этой провинции, этой «сатрапии», очень важны для персидской короны. Не случайно мы видим, что им предоставляют право чеканки монеты; такое не встречается больше нигде во всей Персидской империи. Это указывает на их значимость, особый статус, частичную автономию и, может быть, даже на определённое освобождение от налогов.
Э. Ш.-Р.: В регионе появляются новые игроки. Как евреи (или «иудеи») вписываются во всё это? Как вы их видите в сравнении с финикийцами, с идумеями, самаритянами, которые присутствуют там?
О. Т.: Археологически мы видим только часть картины. Иерусалим персидского периода — очень маленький город, в котором жило всего несколько тысяч человек, если не меньше. Но есть парадокс: большая часть танахической литературы — это литература, сложившаяся в персидский период.
Э. Ш.-Р.: Мы говорили об этом в предыдущем выпуске с профессором Одедом Лифшицем.
О. Т.: Вот вопрос, который всегда будут задавать. Как несколько тысяч человек создают такую литературную массу, как им удаётся её увековечить? Но Иудея — это не только Иерусалим, у неё серьёзный аграрный тыл: десятки деревень, в которых тоже жили десятки семей. Всё-таки Иудея, эта «еврейская провинция», вероятно, приняла лишь несколько десятков тысяч иудеев. Часть из них — местное «ядро», другая часть — элита из месопотамских центров.
Э. Ш.-Р.: Вы сейчас описали положение на рубеже персидского и эллинистического периодов. Но здесь нет передачи эстафеты: нельзя сказать, что персы приходят и передают эстафету грекам.
О. Т.: Верно.
Э. Ш.-Р.: Вообще, что такое Греция? Когда возникло это образование? Мы ведь не говорим о государстве с гимном и флагом под названием Греция.
О. Т.: Это очень важный и принципиальный вопрос для всего обсуждения. Нужно помнить, что в древнем мире идентичность определяется местом, откуда вы пришли. Выходец из Иерусалима определяет себя как иерусалимец, даже если он живёт не там, а в Иудее. Уроженец Ашкелона будет себя определять как ашкелонец, человек из Дора — как выходец из Дора. Мы видим это в серии надписей, зачастую погребальных, относящихся к эллинскому периоду. Греческие наёмники, которые по воле судьбы погребены у нас, всегда упоминают, что они с острова Крит, из определённого города. Но они не скажут: мы греки. Вообще, вопрос греческого самосознания многогранен; кто такой грек — сложный вопрос. Но есть консенсус, что становление греческого самосознания связано с противопоставлением себя Персидской империи. Только когда персы угрожают существованию греческих городов-государств серией завоеваний на исходе VI в. и в начале V в., появляется желание создать некий союз, коалицию полисов. И тогда уже возникает определение кто такой грек — это тот, кто считает, что персов не должно быть в этом регионе Эгейского моря и Малой Азии. Это видно и на уровне языка: греческий в этот период — уже общий язык для более широкого региона, чем раньше. Достаточно говорить по-гречески и быть воспитанным в греческих ценностях — это делает вас греком, и неважно, откуда вы пришли. Исократ в своём «Панегирике» пишет: «Слово „эллин“ теперь означает не столько место рождения, сколько образ мысли и указывает скорее на воспитание и образованность, чем на общее с нами происхождение».
Э. Ш.-Р.: То есть дело не только в персидской угрозе, есть некий общий знаменатель — культурный, образовательный, философский, языковой.
О. Т.: Верно, но во многих смыслах катализатор этого процесса — персы. Когда мы стремимся идентифицироваться с чем-то? В тот момент, когда нам угрожают. Стоит ли удивляться тому, что главный представитель «греческого мифа» в современной культуре — Александр Македонский — вовсе не грек? Но в более поздних поколениях он уже, конечно, считается греком.
Э. Ш.-Р.: Он воплощение и великий основатель эллинской культуры, эллинской империи.
О. Т.: И греческого самосознания. Но великий основатель — сам не грек по факту рождения. Он родом из Северной Греции и Македонии, то есть из региона, который, по крайней мере, в классический период, не воспринимается как часть географического и ментального пространства, относящегося к Греции.
Э. Ш.-Р.: Вернёмся в наш регион. Он, по большому счёту, географически и ментально связан с Грецией. Это первая западная империя в наших краях, прежде были лишь восточные.
О. Т.: Восточные империи приносят с собой ценности, развившиеся на Востоке: восточная философия, кодекс Хаммурапи, наш Танах; их разделяют малые народы Ближнего Востока. С Запада же приходят новые ценности: концепция равноправия граждан, греческий полис, греческая демократия — всего этого не было принято на Востоке. Все граждане равны; хотя и не всегда, но примерно так.
Э. Ш.-Р.: Но некоторые не равны.
О. Т.: По крайней мере, на уровне сознания, назовём это так.
Э. Ш.-Р.: В принципе, это история не только завоевания регионов, но и столкновения восточной и западной цивилизаций.
О. Т.: Да. Но здесь нужно смотреть на вещи несколько иначе. Много лет назад мои учителя придерживались мысли, что Александр Македонский стремился к тому, чтобы все говорили на одном языке, получали одно воспитание, были равноправными гражданами. Так полагали британские исследователи XIX–XX вв., выросшие в тени больших империй…
Э. Ш.-Р.: …и сами в большой мере унаследовавшие этот этос.
О. Т.: Это отражает и оправдывает их колониализм. Однако 40–50 лет назад французские ученые, которые всегда обладали немного иным мышлением и революционным подходом, сказали: прекратите эти глупости, никто не пытался ничего никому прививать, не было школ греческого языка и перевоспитания. Это не Китай. Греков не интересовало привитие мышления и общих ценностей — они завоёвывали другие страны, потому что нужны были земли, потребительские товары, природные ресурсы. И сегодня в археологических и исторических исследованиях этот подход преобладает.
Э. Ш.-Р.: То есть не было какой-то претензии. Я думаю, наши источники перекликаются с этим европоцентристским подходом. Вы знаете, в наших текстах говорится о религиозных гонениях, о желании греков уничтожить нашу религию, нашу культуру.
О. Т.: Да, но нужно помнить, что эллинизм начался значительно раньше. Мы говорим о периоде восстания, которое имело место в 168–167 гг. до н. э., но завоевание произошло в 333–332 гг. до н. э. Массовое вторжение греков в наш регион началось гораздо раньше.
Э. Ш.-Р.: Для меня, как и, наверное, для многих, совсем не очевидно, что здесь были города-государства. Мы, как правило, считаем их исключительной особенностью Греции, но они были и здесь.
О. Т.: Греки проводят административные реформы в определённый период — при Птолемеях и Селевкидах. Это уже не Александр Македонский и не его наследники. Реформы обусловлены политическими проблемами, в частности войнами, когда нужно было предоставить иной статус существующим городам, чтобы они стали логистическими базами воюющей армии. Подобный «косметический» процесс нельзя считать созданием полисов в греческом смысле слова. Далеко не все граждане, жившие в этих городах-государствах, были равноправными, не было у них и самоуправления. Конечно, у них практически не было гимназий и театров. Лишь в течение очень короткого времени и по специфическим причинам функционировала гимназия в Иерусалиме. Но главным «эллинизатором» можно считать Ирода. Это он строит объекты, характерные для греческой культуры. До него мы этого совсем не видим.
Э. Ш.-Р.: Эллинизация выражалась только в названиях, которые давали этим городам?
О. Т.: В управлении (в широком смысле): язык, греческая письменность, монеты периода власти Птолемеев, которые мы называем царскими монетами, потому что на них всегда отчеканен портрет царя; функционеры носят греческие имена. Круг обязанностей должностного лица в греческом городе-государстве не всегда соответствует таковому в городах Азии или Ближнего Востока. «Греческий характер» заметен главным образом в местном управлении: способ местного управления — греческий, даже если должности занимают не греки.
Э. Ш.-Р.: Мы подходим, на мой взгляд, к главному вопросу. Мы начали с истории об эллинизме, о греческой культуре, и я хочу спросить, действительно ли это произошло? Действительно ли был процесс эллинизации — но не в смысле администрации, управления империей, сбора налогов? Действительно ли местное население (в частности, иудеи) впитывали эту культуру, язык, литературу?
О. Т.: И снова мы должны начать с краткого обзора. Когда Александр приходит сюда, он завоёвывает эти регионы практически без сопротивления.
Э. Ш.-Р.: О каком годе мы говорим?
О. Т.: 332 год до н. э., после битвы при Иссе. Можно сказать, что со стороны персов некому сопротивляться его приходу в Левант. Есть несколько городов, всё ещё верных Персидской империи, как Газа и Тир, но большая часть населения покоряется ему. Он продолжает поход и завоёвывает крупные месопотамские центры, но встречает смерть в 323 году, и с его смертью ситуация меняется. Генералы, «стратеги», командиры, которые были его первыми друзьями и хотели продолжить политику Александра, политику одной империи и одного властителя, ссорятся между собой, желая разделить добычу на всех. Сепаратистский подход: пусть каждый возьмёт свою долю — и все будут счастливы. Начинается немалая сумятица, которая известна нам в основном по историческим источникам, археологически мы этого почти не видим. Мы слышим о большом количестве столкновений в нашем регионе, ожидаем найти в прибрежных городах множество слоёв развалин конца IV века, периода войн наследников. Но, за редким исключением, практически ничего не находим. Вот что мы видим на практике: в конце IV века, в 301 году, в нашем регионе примерно на 100 лет устанавливается власть династии Птолемеев, преемников Александра, которая перенимает египетскую модель — царь женится на своей сестре, и их дети становятся их наследниками. Эллинизации не происходит.
Э. Ш.-Р.: Всё осталось на местном уровне.
О. Т.: Египетское влияние на новую власть оказывается сильнее. Империя, основанная полководцем Селевком, в течение всего III века пытается завоевать и вернуть себе территорию Келесирии, представляющую собой, в частности, сухопутный мост в Египет. Начинается серия войн, сирийские войны: каждые 20 лет — новая война, которая длится несколько лет.
Э. Ш.-Р.: Война как раз за нашу территорию.
О. Т.: Не всегда война идёт на нашей территории. Но последняя или, по крайней мере, пятая война, склоняет чашу весов: в 201 году, после битвы при Паниуме на севере, у водопадов Баниаса, удаётся вытеснить Птолемеев с территории, известной в греческих источниках как Сирия и Финикия. В 201 году здесь уже власть Селевкидов. Что это означает? Какая нам разница, кто из греков у власти?
В целом, с административной точки зрения Александр Македонский, завоевавший регион в 332–331 гг. до н. э., не был настоящим греком в своём прагматичном сознании. Многие историографы видят в нём не первого греческого царя, а последнего персидского. В широком смысле, с точки зрения эллинистического видения, он не привносит в систему управления ничего нового. Наоборот, он говорит: необходимо создать здесь новую страну. От части своих полководцев он требует жениться на местных женщинах, чтобы заручиться лояльностью местных малых народов и племён.
И чистый период эллинизма начинается здесь с основанием империй Птолемеев и Селевкидов. Птолемеи до второй Сирийской войны не хотят ничего менять в управлении. Тот самый Птолемей II, который находился у власти почти 40 лет, решает в 261–260 гг., перед началом второй Сирийской войны, провести реформу во всём нашем довольно спокойном регионе, продолжавшем существовать практически так же, как при персидской власти. И он восстанавливает три важных средиземноморских центра, примерно равноудалённых друг от друга — Газу, Яффо и Акко. Каждому даёт название с греческим оттенком: Акко как важнейший порт он называет именем династии — Птолемаида, Яффо, сохраняя характер, получает омонимичный топоним Иоппия, а Газа остаётся Газой. Эти города становятся центрами чеканки: в них чеканятся золотые, серебряные, бронзовые монеты, и они направляют денежный поток на армию. У этих городов особый статус — статус местных полисов.
В других местах, если продвинуться вглубь страны, мы тоже видим интересное явление. Я веду раскопки в Бейт-Шеане, на объекте, построенном тем самым Птолемеем II на 25-й год правления. Мы знаем это по особенной в своём роде керамике — амфорах с Родоса с печатями, на которых имя гончара и архонта — эпоним, менявшийся на Родосе примерно каждый год. У нас есть списки эпонимов, из них по количеству ручек кувшинов и по самой древней ручке мы знаем, когда началось заселение местности. Мы видим это явление в нескольких локациях в регионе. Эти новооснованные поселения — «культурные агенты» эллинизма. В них жило не только местное население из деревень вокруг, но и, как правило, ветераны первой и второй Сирийских войн, которые удостоились подарка по окончании службы царю — дома в этих эллинистических поселениях и земли, которую они могли бы обрабатывать. Кем бы они ни были по происхождению — греками, малоазийцами или выходцами из других городов — именно они начали создавать культуру, которая в ходе синтеза с местной превратилась в то, что мы называем эллинистической культурой. Эллинистическая культура — это, в принципе, койне, структура, состоящая из множества новых элементов.
Эти города осуществляют важную функцию представительства местного эллинизма, потому что ветераны прибыли с иным культурным багажом. Они не жили здесь прежде. Они распространяют язык, письменность, благодаря им местные жители начинают говорить на греческом и понимать греческий. Возникает динамика, которая и создаёт этот новый период.
Э. Ш.-Р.: Если говорить о еврейском населении в этот период, насколько я понимаю, они не стремились селиться в этих новых городах.
О. Т.: Да. Но еврейское население всегда воспринималось властями как некий потенциал. Неслучайно среди еврейского населения всегда есть некий гарнизон. При Птолемеях, в III веке, была большая крепость, где сидел гарнизон Птолемеев, а при Селевкидах — крепость Акра. Это не такая крепость, какую мы себе обычно представляем — стены с несколькими казематами, то, что часто бывает на археологических объектах. Когда речь идёт о Барисе, об Акре, надо представлять нечто намного большее. Это целый административный квартал в самой высокой части города, где сидят чиновники не из местного населения, а представители власти, акрополис в акрополисе. И конечно, они не просто сидят весь день — они взаимодействуют и влияют друг на друга: они воюют, едят и пьют. Всё это проникает в местное общество.
Э. Ш.-Р.: И в еврейское общество тоже?
О. Т.: И в еврейское тоже. В Акре есть целый квартал наёмников из Сирии, Малой Азии, Эгейского бассейна, живущих среди евреев. Они представляют власть и приносят некое процветание, некий прогресс. Неслучайно в начале II века, со становлением власти Селевкидов, возникает новая сила, и в 198 году, она приходит в регион во всей своей мощи и великолепии: производит передел регионов, раздаёт участки земли солдатам, собирает новые налоги — у каждого царя свой подход к региону.
Э. Ш.-Р.: Но у них нет особенно выраженного интереса к евреям.
О. Т.: Нет, они часть всей этой совокупности, но я повторяю: неслучайно в Иерусалиме у нас есть Акра. Например, в идумейской столице Мареше мы тоже видим некий (если археологи 120 лет назад дали верное истолкование) город-крепость, присутствие гарнизона, но в Иерусалиме оно более доминантное. Вероятно, всегда имелось осознание, что в Иерусалиме есть монотеистическое образование, более сепаратистское, потенциально более проблемное. Видимо, наученные опытом, они делают своё присутствие более доминантным по сравнению с Самарией или столицей Идумеи. Финикийских столиц у нас нет, но предполагаю, что и по сравнению с ними тоже.
Э. Ш.-Р.: Давайте поговорим о восстании. Нам известны источники, немного перекликающиеся с тем, что вы до сих пор рассказывали. Есть религиозный нарратив, согласно которому восстание поднялось из-за попытки навязать еврейскому населению чуждые обычаи или запретить ему соблюдать свои традиции. Но есть и иные нарративы.
О. Т.: Да. В последние годы было сделано очень чувствительное открытие — надпись Гелиодора. У этой стелы интересная история: её верхняя часть была найдена в магазине антиквариата напротив отеля «Царь Давид», годами никто не обращал на неё внимания. Знающие люди понимали, что она эллинистическая, но никто не думал, что она отсюда, потому что в Малой Азии множество таких надписей. Обычно это очень высокие, доходящие до трёх метров стелы, потому что это копии царских указов, эпистолярные простагмы, дающие указание, руководство или освобождение, их высекали на камне, чтобы текст был известен всем.
Э. Ш.-Р.: Так почему её игнорировали? Почему не думали, что она важна?
О. Т.: Хозяин магазина хотел продать её по баснословной цене, Музей Израиля был заинтересован, в поисках спонсора прошло несколько лет. Когда он нашёлся, интерес к ней возрос, её начали исследовать.
Э. Ш.-Р.: Но всё это время не знали, что там написано?
О. Т.: Понимающие люди знали, но не могли сказать, откуда она. Там упоминались Сирия и Финикия, но она могла, например, происходить из разграбленных древностей в Дамаске. Мы не знали, есть ли связь.
Э. Ш.-Р.: Так что же это на самом деле? В чём состоит громкое открытие?
О. Т.: Когда Музей Израиля приобрёл её, Хана Коттон и Михаэль Верле опубликовали это открытие. Юваль Горен сделал на ней химические тесты и нашёл там какой-то грибок, который позволил отнести её к Мареше. Спустя недолгое время в организованных раскопках в Мареше нашлись другие обломки, и стало видно, что их можно соединить. Сегодня даже есть, по-видимому, ещё одна такая же надпись — это, по-видимому, некий «билборд» в нескольких храмах центральных городов Сирии и Финикии. И там есть дата — август 178 года, переписка царя.
Э. Ш.-Р.: 178 год до новой эры.
О. Т.: Конечно, до новой эры и до восстания, за 10 лет до него. В надписи говорится о том, что в империи Селевкидов была проведена налоговая реформа, и теперь есть новый верховный священник, которого, видимо, не было прежде. Им дали возможность выйти из положения после того, как они не платили налоги, и назначили нового верховного священника над всеми храмами Сирии и Финикии по имени Олимпиодор. Гелиодор же известен нам по второй Маккавейской книге: он должен отвечать за то, чтобы всё шло как надо, сообщить представителям местной власти, что есть новый верховный священник, и именно он должен посещать храмы. Исторически в храмах есть казна: и в персидский, и в другие периоды с них собирают налог, подушную подать.
Э. Ш.-Р.: Подождите, давайте объясним. Любой храм…
О. Т.: Нет, не любой, речь идёт о центральном храме города. Об Иерусалиме говорить легко — там один Храм. Но в таком городе, как Мареша, где найдена стела, скорее всего, было больше одного храма. Но был один центральный, в нашем понимании, и в нём осуществлялось нечто вроде культа царя — упоминали его самого и его заслуги, желали ему здоровья. Священники такого храма назначались не просто городом, это были священники царя. В эллинистический период (и в более древние периоды тоже) было явление, которое мы называем «культом царя». В центральных храмах, где осуществлялся такой культ, собирали налоги в казну царя, и располагалась казна храма. У храмов были и земли, с них собирали аграрную продукцию. Такие храмы, в сущности, представляли собой административные организации, призванные распределить налогообложение и отдать часть царю.
Э. Ш.-Р.: Если говорить об этом в еврейском контексте, наш Храм…
О. Т.: В еврейском контексте всё очень просто: по-видимому, и раньше были подушные подати, потому что платить нужно…
Э. Ш.-Р.: Платили в Храм — шекель, половина шекеля, треть.
О. Т.: Верно, платили в Храм. Итак, Олимпиодор приходит к тогдашнему священнику и объясняет ему…
Э. Ш.-Р.: «Начинайте отдавать нам десятину».
О. Т.: Интереснее! По-видимому, такие же надписи, как та, которую нашли в Мареше, стояли на входе в Иерусалимский храм, на горе Гризим, и в Бейт-Шеане. Во всех местах, где есть храм, где есть представительство, есть некое понимание, что это территория царя.
Э. Ш.-Р.: То есть, вы говорите, что изменилась политика. По-видимому, налогообложение храмов не осуществлялось по разным причинам.
О. Т.: Да. А если осуществлялось, то очень частично. А в этот раз забирают, назовём так, «излишки» у этих организаций, потому что храмы имеют особый статус в древнем мире. Нужно помнить, что у храмов есть собственность. Даже когда приходит новый завоеватель, новая империя, какая-то новая власть — она может коснуться частной собственности, но духовную, храмовую собственность, как правило, трогать не будут, потому что это отличный способ найти себе проблему. Отобрать у кого-то личную землю не трудно, но отобрать владения у храмов — проблема, это вызовет слишком большое сопротивление.
И вдруг власти совершают необычный поступок, какого не было прежде. Люди думали, что они живут, предоставляют логистические базы, города будут кормить армию и снабжать пропитанием гарнизоны, но налоги от них не будут требовать. И тут от евреев внезапно требуют, чтобы они начали платить.
Э. Ш.-Р.: Было проще игнорировать эллинистическое присутствие.
О. Т.: Нет, всё же это 178 год. За прошедшие 10 лет упомянутый царь, Селевк IV, погибает (175 г.), и его сумасшедший брат (Антиох IV) приходит к власти после того, как сыну Селевка не дают стать царём. Кто-то ощущает сильное недовольство, чего нет в Мареше, в Тире, в Дамаске, в Филадельфии… Может быть, это финансовый повод для восстания Хасмонеев. Царь говорит: «Вы не платите — я начну гонения». Можно предположить, что что-то в еврейском поведении настроило Антиоха IV против евреев, и он начинает гонения против традиции, выходящие за рамки в древнем мире.
Э. Ш.-Р.: Известно ли об этом из других источников, кроме наших текстов? Из археологии, из надписей, откуда угодно, известно ли, что на самом деле были такие гонения?
О. Т.: Нет. Любой, кто говорит о них, основывается на еврейском контексте. Но так или иначе, эта надпись имеет не только еврейский контекст. Она способна дать нам объяснение, но можно допустить, что одно с другим не связано. Скажем, в 175 году они были освобождены, а в 172 году внезапно Антиох установил другую стелу? Очень может быть. Но эта надпись создаёт впечатление, что имеется некоторый новый пласт всего происходящего, на фоне которого нужно помнить и о фракционализации в Иерусалиме. Есть желающие присоединиться к власти, которые видят чужую власть как легитимную, и есть сторона, которая говорит: ни в коем случае.
Э. Ш.-Р.: История Хасмонеев — нечто вроде вехи в процессе освоения греческой культуры: нам известен нарратив «эллинизаторов» — нужно выйти на войну с «эллинизаторами». Меняется лишь образ этих «эллинизаторов».
Если в предыдущем выпуске мы говорили с профессором Одедом Липшицем о портрете вернувшихся из Вавилона евреев в сравнении с местными жителями, то евреи из Вавилона, элита, как раз и были фанатиками, сепаратистами, мечтали о возвращении былой славы. А простые люди, которые жили здесь, проще ко всему относились: они продолжали жить тут, поддерживали связи с местным населением, женились на местных. Между этими группами велась своего рода борьба. Когда мы говорим о Хасмонеях, именно элита — цари, священники, те, кто был в хасмонейской «клике» — впитала в себя эллинизм. Они были эллинистами. И именно периферия, жители деревень, Йоханан и его сыновья, Маккавеи, были фанатиками. То есть всё перевернулось!
О. Т.: Да, в некотором роде. Эллинисты есть ещё до Хасмонеев, до восстания. Мы не слышим о Хасмонеях к 168 году, началу восстания; есть Матитьяху, мы слышим о нём. Но в период создания этой надписи и в период, последовавший за ним, когда мы слышим о гимназии?
Нигде в нашем регионе нет гимназии, по крайней мере, в Земле Израиля. Однако между 174 и 171 годами гимназия была.
Что такое гимназия? Гимназия — это место, где обучают, но не языку и культуре, а военному делу: как воевать, как быть частью фаланги, как вести себя на поле боя, какова тактика и стратегия боя. Это первые эллинисты — те, которые хотят присоединиться к Селевкидам и стать частью власти. Думаю, что поскольку было заметное присутствие эллинистов в той самой Акре, то там было больше контактов с элитой и больше влияния. Именно с элитой: чтобы быть фалангитом, быть воином, нужны деньги на покупку снаряжения.
Э. Ш.-Р.: Это высокий статус.
О. Т.: И статус тоже, конечно. И тогда начинаются гонения, и всё переворачивается. Все, кто колеблется, захотят перейти на сторону, которая хочет их уничтожить. Поэтому у нас есть восстание.
Э. Ш.-Р.: Более того, я думаю, что элитам, уже обладавшим высоким социальным и экономическим статусом, было что терять из-за восстания. Они хотят присоединиться к власти, к силе. А периферии нечего терять.
О. Т.: Верно. Хасмонейская эллинизация, конечно, сложный и длинный процесс, и я бы не говорил о нём применительно к первым годам становления династии Хасмонеев — ни при Йехуде Маккавее, ни, конечно, при Йонатане этот процесс ещё не был запущен.
Когда же возникает провозглашённое государство Хасмонеев со своей валютой, государственными институтами, верховным правителем, первосвященником, а затем и царём, они чувствуют себя гораздо увереннее, идентичности элит уже ничто не угрожает, и они могут перенимать что-то другое, хотя в начале пути их стремления были сепаратистскими. Всё Хасмонейское царство возникло из желания автономии не только государственной, но и культурной, религиозной, национальной. У них была претензия на национальный сепаратизм и, по-видимому, на возвращение времён Первого храма.
Э. Ш.-Р.: Монеты, царство.
О. Т.: Монеты — нет, но царство — определённо. Есть некоторый вопрос о государственной и культурной автономии в этом регионе. Когда есть понимание, что такая автономия существует — вы гораздо более открыты и восприимчивы к внешним влияниям. Но в этом есть внутреннее противоречие.
Наверное, на этой неочевидной мысли мы и закончим. Допустим, есть стремление к сепаратизму и национализму, но когда оно реализуется, в этот момент наступает конец этому сепаратизму, изоляционизму. Когда мы успешны — мы намного более открыты влияниям, меньше боимся, у нас больше уверенности в себе, мы сносим стены и, в каком-то смысле, это уже начало конца.
Не стоит забывать, что они — часть средиземноморского общества с присущей им общеупотребительной знаковой системой — определёнными символами, формами, именами, характерными признаками власти.
Здесь прослеживается как индивидуальность, так и некоторая двойственность. С одной стороны, индивидуальность, с другой — двойственность, потому что нужно снискать доверие властей, найти своё место среди окружающих малых народов и выжить среди них, выделяясь на их фоне. Возможно, так можно объяснить эту логику. Я думаю, мы не будем говорить об этом прямо, но нам есть чему поучиться, глядя на Хасмонеев и империю, в плане желания отделиться, но при этом вписаться, стремления к партикулярности и к универсальности. Как сказал мудрейший из людей, нет ничего нового под солнцем.
Все беседы второго сезона:
Черная дыра израильской археологии
Ирод: архитектура и злодейство
Что раскопали на горе Геризим?
Альтернативный еврейский храм в Египте
Почему Курманские свитки остаются сенсацией?
Как проникнуть в мысли людей древности?
Масада и мифология современного Израиля
Восстание Бар-Кохбы — героизм или ошибка?